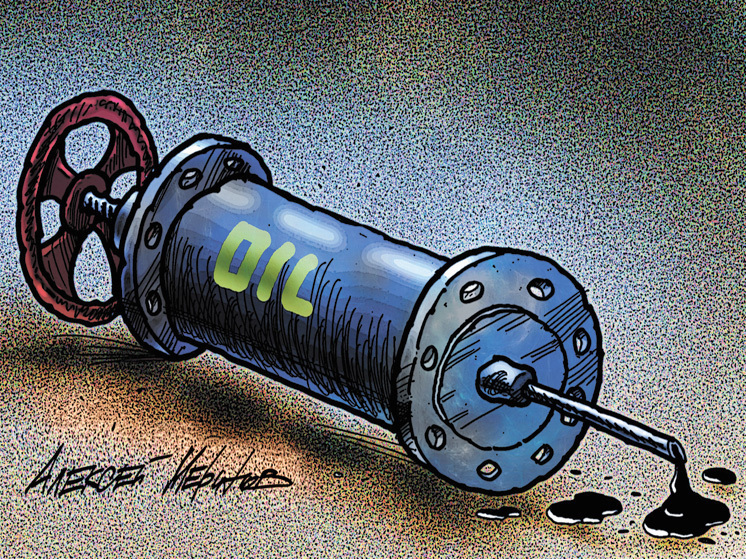— Кого-то Гурченко все-таки любила по-настоящему? Может быть, отца своей дочери?
— Не могу я ответить на ваш вопрос — мы же не были близкими людьми. Это были какие-то фрагментарные встречи, взаимные симпатии друг к другу, мое восхищение и... я ее всегда побаивалась.
— А было из-за чего побаиваться?
— А я не знала, как она может отреагировать на какие-то слова, поступки.
— Вы не знали этого в принципе или вы наблюдали, как она может отреагировать, и вас это смущало?
— Да, наблюдала. Точно могу сказать, что она не любила дураков и бесталанных.
— А какая реакция была на тех, кого она считала бездарными?
— Она была очень иронична. Ну это же Скорпион. Поэтому да, не дай бог, если бы она вдруг кого не полюбила.
— Она была резка в словах, в суждениях?
— Да. Но при том все равно ее реакция — это была защита. Жутко израненная она была, бесконечно уставшая от жизни… Ведь действительно этот ее первый этап, когда после взлета вдруг так на землю спуститься, долгое время не быть востребованной, при том, что действительно для нее ведь только это существовало — актерство.

Из дневников Киры Прошутинской:
«12 ноября были на семидесятилетии Гурченко. Приехали вовремя. В фойе непривычно мало людей — этот вечер хоть и снимала РТР, должен был быть довольно интимным, в зале столиков 25–30. За каждым — по четыре человека. Людмила Марковна в приглашении называла этот вечер «В кругу друзей». И не поленилась каждому приглашенному от руки что-то приписать в билете. Мне — с любовью, нежностью, неизменным восхищением. Толе — что-то другое. Все стояли — выпивали, наступая на лепестки алых роз, разбросанных по всему гранитному полу фойе… Действо долго не начиналось. Потом с неожиданной стороны раздался голос Гурченко. И она, в костюме сороковых годов, вышла с баянистом. Спела. Рассказала обаятельную историю девочки и ее папы из Харькова. Об их великой мечте — покорить весь мир ее искусством. И это было прекрасно. Мы подумали, что так и пойдет вечер — Людмила Марковна будет рассказывать и петь. Но вышли Нагиев, Дибров, Фоменко, и началась скучная необязательная тоска из необязательных слов, дурацких шуток. Изредка, видимо, переставая владеть собой, Гурченко кричала: «Почему пауза?» Иногда, взяв микрофон, имитируя смех, вновь выбегала на сцену. И все снова становилось остроумно, весело, изящно.
Она была в красивой, с баской, бархатной юбке и белой кофте с имитацией черных кружев. Издали смотрелось необыкновенно хорошо. Но вдруг прошла рядом: уставшая спина немолодой женщины, знакомый парик. Она спела вместе с Розенбаумом, и он после этого с чувством сказал: «Мог ли я, питерский пионер, думать, что буду петь вместе с Гурченко?» Через какое-то время Дибров сказал: здесь сидят люди, которые делали историю нашего кино, а здесь сидят люди, которые сделали историю нашего телевидения! И вдруг передал мне слово. Я — тугодум, а тут вообще не была готова, поэтому сказала довольно хило. Только про пионера сказала, что Розенбаум Людмиле Марковне в отцы годится. Все засмеялись».
— Как она зарабатывала все это время?
— Ну, во-первых, снимались программы с ее песнями. Она что-то получала за это. Потом Сережа добывал деньги на эти же программы, еще что-то. А больше я не знаю. Я не могу сказать, что они шиковали: ездили в Крым, а не в какую-нибудь Италию, привозили оттуда камешки, целые мешки, чтобы выкладывать дорожки на даче. Мы жили рядом с ними, в соседних поселках. Она была там не так часто, иногда встречались случайно, когда она гуляла с собакой.
— То есть она была небогата, вопреки стереотипам?
— Нет. Но как-то у Сережи я увидела очень красивое кольцо на руке с сапфиром в белом золоте. Я спросила: «Сережа, откуда это у вас?» — «Это Люся подарила. Она была в Нью-Йорке и там купила кольцо. Все, что хорошее у меня есть, это все от нее».
— У нее был хороший вкус?
— Во всяком случае так, как она одевалась, никто не одевался. И она сама придумывала наряды. Какие там дизайнеры! Она лучше всех понимала, что хорошо, что плохо для нее. Я помню: боже мой, как она умела повязать косынку… Мы спускались в Киеве на завтрак, она без всякого грима, наверное, именно такой ее любил муж. И эта косынка. Как можно было так повязать, чтобы это выглядело так удивительно изящно?
— Узнавали ее на таких завтраках?
— Не помню. Мы нигде особенно не были. Мы приехали на открытие выставки «Караван историй», где были наши фотографии и мы, их героини. Вот и все. Правда, в какой-то день нас пригласили в дом антиквара. И это на меня произвело такое сильное впечатление, а точнее, личность хозяина.

— А Людмила Марковна произвела на него впечатление? Как вообще на ее появление реагировали люди?
— На нее реагировали, конечно, все. Она центровала. Есть люди, которые сразу притягивают внимание. Она могла ничего не говорить, она могла просто молча сидеть, но все равно все внимание было к ней. Так же, как к Алле Пугачевой.
Из дневников Киры Прошутинской:
«В последний киевский день нас повезли к какому-то коллекционеру. До этого в поездке Людмила Марковна рассказывала странную историю о своей привязанности к старинному урановому зеленому стеклу. Она начала его собирать очень давно: получила какой-то гонорар и пошла в комиссионный. Вдруг луч солнца попал на зеленую вазочку с гвоздикой и изумительно все вокруг осветил... Та ваза стала ее первой покупкой. А недавно Сережа разбил одну из ваз, и теперь таинственно звонит кому-то, чтоб купить ей что-то взамен. Это предыстория.
…Хозяин вел экскурсию, как Гобсек, как ростовщик, любовно глядя и любовно гладя каждую вещь, зная ее историю и цену: «Если вещь покупают, я рад, значит, будут деньги, если не покупают, тоже рад, значит, она останется со мной».
…Вдруг я случайно взглянула на витрину шкафа: там в запыленной глубине сверкали незнакомым мне холодным зеленым светом графин и шесть стопок на подносе, и почему-то я сразу поняла — это уран. Посмотрела на Гурченко — было видно, как она взволнована: говорила громко, с напором. Я спросила ее: «Это уран?» Она, не поворачиваясь: «В том-то и дело!» Мы разговаривали, выпивали. Хозяин Алик уже понял, кому что понравилось. Я встала из-за стола и снова пошла по дому. Людмила Марковна говорила все громче, называла Алика «сынком». Ее лихорадило все больше. Вдруг Алик сказал: «Да подарю я вам этот набор! Сын, упакуй все это моей любимой актрисе!» Потом он вышел из комнаты и принес каждой из нас что-то в подарок. Мне он подарил графин тридцатых-сороковых годов, это была именно та вещь, которая мне понравилось. «Чем я отплачу ему?! Как неудобно!» — шептала Гурченко. Потом: «Давайте, Алик, выпьем за ваше будущее!» — сказала она. Алик тихо: «Мне хватит и вот такого, сегодняшнего!» Он становился все тише, грустнее. Людмила Марковна встала: сфотографируйте нас! Она своей рукой положила его руку себе на попу, обняла, прижала к себе. Он вдруг стал робким, смущенным, жалким».
— Она не ревновала свою дочь к мужу?
— Нет, ну что там ревновать. Нет. Но ведь Сергей говорил, что Люся была подозрительная. Конечно, это непросто принять, я имею в виду 25 лет разницы. Кстати, она долго не знала, какая у них разница в возрасте. А он был в нее влюблен с 18 лет. В те времена Сенин читал ее книгу «Мое трудное детство» в студенческой аудитории. И когда поднял глаза, понял, что сменились студенты, за окном темно, а он все еще читает. А встретились они через 11 лет. Когда начался их роман, он пригласил ее на свой день рождения, и она спросила его приятеля (он сидел рядом): «Сколько лет исполняется Сергею?» Тот говорит: «32». Сергей сказал: «А я не мог понять, почему у нее так изменилось лицо». И она долго сидела, думала.
— А у них уже были тогда отношения?
— Не знаю. Она замечательно сказала, что наши отношения начинались очень высокодуховно и очень долго спускались ниже. Сенин очень интересный, образованный человек. Они друг другу помогали, я думаю. Гурченко очень гордилась тем, что он играл на фортепиано, окончил музыкальную школу. Но вернусь к тому дню рождения. Она долго сомневалась, стоит ли продолжать эти отношения. А потом, как рассказывал мне Сергей, решила: он один, она одна, ну сколько продлится, столько и продлится. Не думаю, что она любила его так, как любил он. Сережа ее боготворил.
— Наверное, не разрешала себе любить?
— Ну как? Ее надо было всем любить. Конечно, всем! Кто ж из актеров не хочет, чтоб его любили.
— Нет, я говорю: она себе не разрешала его любить.
— А может быть, и не умела. А может быть, уже отлюбила. Такое тоже возможно.
Из дневников Киры Прошутинской:
«К Сергею Сенину Гурченко, по-моему, относилась спокойно, доброжелательно, прагматично. «Наш роман начинался на высоком интеллектуальном уровне и только потом медленно спустился вниз. Сергей очень преданный человек». И я понимала, что она за это его очень ценила. Но почему-то не почувствовала я в ее интонации чего-то женского про мужчину».
— Неужели Сергей Сенин ее действительно так сильно любил? Даже не взирая на такую ее прохладцу?
Мне кажется, безумно любил. И уважал, и восхищался. Я говорила: «Неужели не было конкуренции?» Он говорил: «Кира, как можно вообще конкурировать с Солнцем?!» Я говорю: «Ну, она актриса». — «Актриса? Ничего подобного. Это совершенно разные субстанции, она и все эти актеры. Люся — это Космос». Вспомнила, как он рассказывал, что у Гурченко был какой-то пунктик: те люди, которые называли ее Люда, переставали вообще существовать для нее — только Люся. Все самые близкие называли ее Люсей. Конечно же, я не была с ней так близка, поэтому она всегда была Людмила Марковна для меня. Какая же радость, праздник был, когда мы общались. Потому что, конечно, она была невероятным человеком. Невероятным — по степени таланта, мне даже кажется, не столько актерского, сколько человеческого и писательского. Потому что ее рассказы, ее парадоксальность в оценке людей, ее некая жесткость, точность людских характеристик… я даже не знаю, с кем ее сравнить в этом смысле.
Но, с другой стороны, Сергея она звала «папа», хотела быть дочкой, искала защищенности.
— Она не вспоминала при этом, что ее дочь тоже хочет быть дочкой?
— Про дочку. Это тяжелая история. В своих дневниках я это рассказываю вкратце. Но вообще для нее отношения с дочкой были мучительны.
— Для нее было мучительно материнство вообще?
— Нет. Было разочарование. Ну как, мы же хотим, чтобы наши дети были умнее, лучше, талантливее…
— Если судить по книге-автобиографии Гурченко, у нее, похоже, с детства был комплекс недолюбленности со стороны матери. Ее мать не была хорошей матерью, прямо скажем. Наверное, в этом плане она повторила судьбу своей мамы?
— Она очень много вкладывала в Машу. Мы с ней много разговаривали об этом. И когда постепенно все отпадало: музыка отпадала, школа отпадала, институт отпадал, и она вдруг… ну как вам сказать… это тяжело. Наверное, это неправильно, надо принимать полностью своих детей, какими бы они ни были, но она не принимала ее именно поэтому.
— Она в нее вкладывала с целью получить что-то. Успех, повод для гордости. А вот любовь она в нее вкладывала?
— Думаю, что для нее были две важные вещи: это прежде всего актерство и второе — это, наверное, любовь.
— Но она хотела, чтобы дочь занималась музыкой и стала известным музыкантом, и за это любовь?
— Я ответила на этот вопрос. Думаю, что такой классической мамой-клушей, любящей, прощающей, понимающей, принимающей, она не была.
— А внука она тем не менее любила любым.
— А внука любила.
Из дневников Киры Прошутинской:
«На обратном пути Людмила Марковна рассказала историю своих отношений с дочерью. У них был суд из-за квартиры ее покойной матери. Дочь с зятем сделали там офис и не хотели отдавать ее обратно. Людмила Марковна очень болела, лежала в больнице, а дочь Маша спрашивала Сергея Сенина, зарегистрирован ли их с матерью брак. Потом дала интервью, в котором рассказала, какая жестокая мать Гурченко. И в те же дни, когда она лежала в больнице вся в трубках, капельницах, пришел Сергей и сказал, что умер от передозировки ее любимый внук Марк, названный в честь дедушки. Ему было 16 лет. Людмила Марковна не знала, что он колется. Больная, с заткнутой ватой ноздрей, она поехала на кладбище. «Все, у меня нет дочери», — сказала она тогда».
— А у Сергея есть свои дети?
— У него одна дочь. От первого брака. Его первая семья жила в Израиле.
— Он был в разводе?
— Я писала об этом. Жена поступила с ним непорядочно, он не знал до последнего дня, что они уезжают. Она, не сказав ему, фактически поставила перед фактом своего отъезда.
— И ребенка забрала?
— Да, конечно. Они с дочкой уже позже сблизились.
— Квартира у них с Гурченко хорошая была?
— Очень.
— В центре?
— Да.
— Она ее купила или получила?
— Нет, они купили. Продали предыдущую. Она говорила: «Я мечтала о такой квартире, какой-то итальянской». Квартира уже готовая была, они ничего там не делали особо. Выложенный мозаикой пол. У меня все в рюшечках, но у меня их гораздо меньше, чем у нее. У Людмилы Марковны все было в скатертях, в этих самых рюшечках. Может быть, кому-то кажется, что по-мещански, но уютно у них было очень.
— Это из детства, видимо.
— Наверное. Бедное детство. И тут все было красиво, все было удобно, все было для того, чтобы чувствовать себя хорошо дома.
— А сам дом крутой?
— Старый дом, обыкновенный, с выщербленными ступеньками, с маленьким лифтом, который часто не работал.
— Квартира осталась Сергею?
— Да. У него осталась только их квартира, из которой он сделал музей. А дом за городом он отдал Люсиной дочери.
— Гурченко ему, наверное, оставила авторские права на все?
— Не знаю. Ну наверное. Хотя как оставила? Она же не собиралась уходить из этой жизни. Смерть ее была внезапной.
— Но они же зарегистрированы были официально?
— Да. Достаточно долго просто жили вместе, а потом, поскольку он был гражданином Украины (он одессит), все время возникали какие-то проблемы. Поэтому приехал человек из загса и дома их просто зарегистрировал.
— Гурченко была красивая? Когда без грима, сценического света.
Ну вот я пишу в дневнике, что когда привыкнешь к этому лицу — не сделанному, с замечательной кожей, с прекрасным молодым абрисом губ, то да. А так — слишком много она доверяла пластическим хирургам. И слишком усовершенствовала себя. Плюс к тому, что она хотела хорошо выглядеть, Люся все равно комплексовала, потому что муж был на 25 лет моложе. Сергей мне сказал, что они никогда не спали врозь, до последнего дня только вместе. И она мне как-то сказала в нашей общей поездке: «Вы не представляете, как каждое утро просыпаться рядом с молодым мужем. Это испытание».
— А то, что она говорила «я не хочу жить», — это была игра такая?
— Нет.
— Она правда не хотела жить?
— Правда.
— Были попытки?
— Я не хочу об этом говорить.
Вообще в ней как-то очень уживалось все: это бунтарство, это вызов, челлендж такой и фатум. Она не боялась смерти, но при том при всем она все время говорила, что боится погибнуть в авиакатастрофе, и не хотела, чтобы ее видели в гробу. Она думала о смерти. И последнее, что произошло фатального, — она же сломала ногу, и когда ее выписали из больницы и она вернулась домой, ей приснился сон, что она пошла без костылей. И Людмила Марковна вскочила и вдруг реально впервые пошла без костылей на кухню. А Сережа в это время готовил завтрак. Он не видел, что она пришла. В это время по радио шла программа, в которой обсуждали программу «Бенефис» с ней. И там две дамы хохотали и говорили, «какой провал у Гурченко». И когда он обернулся, увидел, что она сидит на скамеечке и это слушает. У нее было совершенно белое лицо. Как он считает, Люся умерла потому, что поняла: она больше никому не нужна, а если она не нужна как актриса, то и жить ей не стоит. И вроде не было проблем со здоровьем, она проверялась, и все было нормально, и все говорили, что сосуды у нее совершенно как у молодой женщины. А незадолго до тех роковых дней она сидела на кровати и расшивала платье пайетками. Смеясь, сказала (в это время у них в гостях был друг-фотохудожник и гример): «Когда я умру, похороните меня в этом платье, а ты мне нарисуешь лицо». Она никогда не жаловалась на здоровье и не любила эти разговоры. Но все случилось так неожиданно...
— Похоронили в том самом платье?
— В этом платье, и он нарисовал ей лицо. Я помню, когда мы были на поминках, Ширвиндт сказал: «Какая же она красавица». Все это говорили. Я не смотрела на нее, не могла.