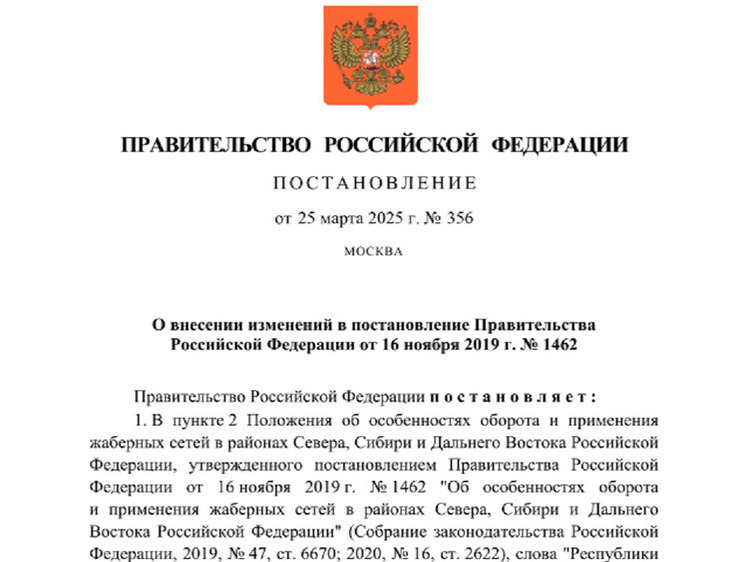— Когда у меня спектакли, есть нельзя, потому что появится тяжесть. Но вот перед «Маскарадом» (спектакль «Арбенин. Маскарад без слов» – авт) я обязательно прихожу в кафе и съедаю шоколадный эклер. Они все уже знают, что я закажу, и говорят: «Ну, попробуйте что-то другое!» Но нет, мне нужен именно шоколадный эклер. Причем, я не сластена. Но поскольку спектакль пластический, очень много сил уходит, энергии, то мне приходится. На моно-спектакли тоже нужно много сил.
— Я смотрела «Маскарад» — потрясающий.
— Очень. Это моя любовь.
— Я с таким не то что сомнением, не то, чтобы с осторожностью, а с большим удивлением пошла, подумала, как же это можно вытянуть без слов, одной только пластикой, мимикой.
— Я в таком кайфе от этой работы. Для меня это какая-то новая трактовка. И я сомневался страшно. Я ведь играл «Маскарад» и для меня подстрочник – он во мне. Хотя мне не 18 лет, так экспериментировать! Потом я привык, что я говорящий, люди привыкли, что я говорящий...
— Да, вы голосом работаете, он узнаваемый, петь пробуете…
— Да, и я переживал, как не сказать этот Лермонтовский гениальный текст? Но как только мы начали репетировать, необходимость в этом пропала вообще.
— Я думаю, что Лермонтов с большим удовольствием бы посмотрел. Хотя, он как поэт вкладывал всё в строчки. Но увидеть эти строчки, сделанные мимикой, движениями, мне кажется, для него это было бы очень интересно.
— Лермонтов, наверное, порадовался в данном случае потому, что не происходит насилия над этим произведением. И даже те, кто не читали «Маскарад», рассказывают, что им все на спектакле понятно. А для меня это был вызов. Все-таки, надеюсь, что я из тех артистов, которые за эксперимент, за то, чтобы развиваться.
— Делать привычное проще и выгоднее.
— Да, но можно быстро привыкнуть к себе. Начинаешь думать: «А, я это умею, легко сделаю». А тут мне надо было понервничать. Это как Чарли Чаплин, он всего добивался эмоциями. А когда Чаплин заговорил, кино его закончилось. Всё.
— Но сейчас, наверное, редко есть такая возможность – экспериментировать. Все предлагают какие-то накатанные вещи со стопроцентным успехом.
— В этом смысле я – везучий артист. Мне все-таки в жизни попадались такие творческие испытания, которые двигали вперед. Последние несколько лет у меня как раз были такими прекрасными, замечательными, новым витком. Я все время себе загадывал: давай, давай, ещё в другую сторону, какую-нибудь встряску. Потому что не хочется становится таким уже…
— Забронзовелым?
— Часто слышишь: ну, конечно, Аверин… И я думаю: начинают привыкать ко мне! А мне это не нравится. Я то надеюсь, что я – подающий надежды.
— Вам 26 ноября исполняется 47, это возраст (ну кроме подавания надежд, разумеется) осмысления или вы уже наслаждаетесь осмыслением?
— Я даже не знаю. Думаю, осмысливать нужно в последнюю минуту. А здесь удовольствие от того, что новые горизонты открылись, новые возможности, новые роли… Нет, чудесный возраст, я в нем купаюсь.

«Спектакль «Маскарад» – это посвящение человеку, очень личное»
— А вы сами к себе привыкший человек?
— Нет, вряд ли. Потому что я бы не смог тогда работать каждый день. Все-таки ежедневный выход на сцену — это испытание. Театр, как Гафт пишет в своих стихах: «Всё, позор запечатлен, его уже не исправить ничем». Это очень верно. А уж когда смотришь фильм... Все, что с момента съемки и до момента выхода, к тебе уже не имеет никакого отношения. Это уже в руках монтажера, это озвучивание, это композитор, это режиссер, который тебя режет, как хочет.
В театре все-таки другое. И уникальность этого искусства в том, что оно не фиксировано. Вы заметили, что ни один спектакль драматический невозможно снять хорошо? Не получается ни у кого. Вот даже говорят: вы посмотрите старые спектакли! Но если вы посмотрите, вы поймете, что ваши впечатления тогда и сегодня – они очень разнятся.
— Как ни странно, когда люди начинают снимать из-под юбки…
— Они просто фиксируют момент, что я здесь, на сцене.
— Нет, иногда бывает зрители, снимая, ловят настроение, какие-то удивительно важные моменты…
— Мне недавно пришло письмо от женщины, которая живет в Италии. Она мне прислала фотоальбом Феллини, очень красивый. И рассказала к слову, как они оказались на Украине у ее племянницы и им пришлось трое суток сидеть в подвалах. И там они смотрели отрывки моих спектаклей, которые ее племянница записала когда-то на сотовый телефон. И она пишет мне: «Нас это спасло...» …Я, боже упаси, не хочу этим хвалиться! ...Но если ради этого... Если каким-то людям чуть-чуть будет подспорье в жизни... ...Я ведь работаю ради того, чтобы публика улыбалась. Даже если грустно, если плохо, всегда надо иметь свет в конце тоннеля.
— А вы сами имеете этот свет?
— Конечно! Иначе все бессмысленно.
— У вас хватает энергии и на жизнь, и на сцену? Чтобы и там нести свет, и здесь?
— Я не разделяю жизнь до сцены и на сцене, у меня жизнь не по частям, она – просто жизнь. Одно без другого невозможно. Невозможно жить и не влюбляться или, наоборот, не разочаровываться. Мне просто проще, я могу генерировать эмоции в работу. То есть любые перипетии, жизненные ситуации, которые я проходил в жизни, я могу нести на сцену. И у меня появляется возможность не депрессировать и грызть стены, а именно в работе вытягивать себя. Это и счастье приносит большое, и в горе не дает сойти с ума. И эта единственная возможность продолжаться в наших последних реалиях. Моя позиция – вот она! Сейчас залы полные, люди убрали глаза от планшетов, стали хоть немного смотреть по сторонам – а жизнь то, вот! И много молодежи приходит, и они начинают открывать для себя этот мир. Для меня это – радость, это жизнь моя.
— То есть можно сказать, что вы на сцене показываете не сыгранные, а свои собственные пережитые эмоции?
— Есть, конечно, роли, где надо фантазировать, но если ты не будешь подкладывать собственные эмоции, правды не получится. Скажем, «Маскарад». Я, конечно, никого в жизни не травил, но в тот момент, когда я встал в классе и начал работать, то это легло на мое состояние.
— Оно было тогда таким сложным? Пограничным с эмоциями героя «Маскарада»?
— Да. Я даже считаю, что это некое посвящение – этот спектакль.
— Посвящение человеку? Это связано с личным?
— Да, с личным. С личным! Всегда только личное. И для меня это было возможностью вытянуть себя. Не возможностью идти поплакаться публике, это же не значит что я вышел и начал страдать. А просто это была та энергия, которую я нес в себе в этот момент и которую я отдал.
— Энергия любви? Страсти? Возмездия?
— Жажды жизни, я об этом всегда кричу в любой роли.
— Любое произведение можно сыграть гениально?
— Чем больше я взрослею, тем больше мне хочется заниматься высокой драматургией. Актер — тема. Невозможно играть просто ситуацию, она тогда становится глупой, из жизни насекомых, а тему играть – это, к сожалению, не все умеют делать, прячутся за какую-то бытовуху.
Возьмем «Там же, тогда же». Это пьесу часто берут и переписывают, чтобы избежать авторских прав, и получается совершенно про другое – адюльтер, а это не так! Герои совсем не ради секса там, секс, что называется, сопутствующий товар. У них просто есть необходимость друг в друге. Раз в год они должны рассказать все, что прожили за эти двенадцать месяцев. Я, когда начал репетировать, долго сомневался, говорил: «Ань (Анна Якунина – партнерша Максима Аверина в спектакле – авт.), наверное, это – не мое...» А сейчас мы играем и такое наслаждение получаем от этой драматургии! От того, что автор туда заложил! Я же говорю: «Чарли Чаплин: смех и слезы рядом, это жанр сегодняшнего времени – трагифарс».
— Сегодня в театре часто накручивают действо: то голые, то пионеры, то вдруг Ленин из Мавзолея, хотя спектакль при этом вообще может быть классическим. Вас такое не привлекает?
— Работа над пьесой – это разгадка того, что имел в виду автор, а ни когда ты напридумаешь. Вчера, например, играли «Лес», спектакль сделан в классической манере, но публика прекрасно реагирует. Островский очень современный! Время само фильтрует многовековое искусство, каждый день в этом мире ставятся многотысячные спектакли по Шекспиру, он невероятно актуален. Вот как они могли узреть все это столько лет назад?

«Первая картина – то ужас какой-то! Я был как обезьяна!»
— Если вы завтра не будете артистом...
— (Перебивает) Нет! Такого не может быть. Я не смогу без этого. Да, конечно, вдруг так окажется, что я, может быть, стану не нужен... Но есть же рядом профессии: режиссер, педагог, просто человек, который работает в театре. Я должен быть здесь, рядом. Я сейчас начал преподавать, веду художественное руководство, это все – профессия.
— Интересно вам учить других?
— Мне в какой-то момент это стало эмоционально необходимо – дети. Я имею в виду педагогику. Но это совершенно другая профессия.
— Вы берете оттуда энергию?
— Это большое заблуждение, что ты берешь оттуда энергию! Ты ее отдаешь килограммами.
— Ну все же это какой-то да обмен: берешь – отдаешь...
— Во всем должен быть обмен, в любом общении. Дети многое дают, но ты отдаешь больше.
— Зачем вам тогда это?
— Я в них вижу себя когда-то. И у меня есть возможность от чего-то их оградить, а, может быть, и подстелить соломку. Которой они, возможно, и не воспользуются. И, может, даже не поймут, что это была соломка. Но я могу попытаться в какой-то степени не возводить в их жизни иллюзию, потому что когда они придут в театр, на съемочную площадку, столкнутся с совершенно другой жизнью, не всегда приятной... Не всегда благоприятной и счастливой... И вот эти ухабы научить их как-то обойти, может быть, это моя задача и есть. Поскольку я действующий артист, тренирующийся ежедневно, у меня есть возможность их оградить от дурного вкуса. Потому что можно приобрести такой навык, который потом останется на съемочной площадке. И я, между прочим, хочу предложить Князеву Евгению Владимировичу (ректор театрального института им Щукина, который в свое время закончил Максим Аверин – авт.) не то что отдельный кинокурс, но научить студентов определенным вещам. Они, например, должны понимать, что такое свет, потому что на площадке никто им не будет это объяснять. Я, помню, когда в первой картине снимался – но тогда другая жизнь была! – носился как сумасшедший по кадру. А осветители говорили: «Слышь, бешеный, встань нормально!» Кино – это математика, а молодые приходят и не понимают этого. Кино – моторика, математика и повторение.
— А как же полное погружение в роль?
— Никита Михалков говорил: «Если Джульетту после каждого спектакля увозят в больницу, стоит задуматься, надо ли ей этим заниматься?» В этом и есть профессия. В театре дубль только один и больше нет. А в кино – крупный, средний, общий, детали и все повторить. До точности, иначе тебя потом монтажер убьет за эту твою импровизацию. Но молодые не знают этого, поэтому их нужно учить, чтобы они хотя бы не растерялись. Учить и тому, как работать над ролью.
— Первая роль, это как потеря девственности?
— Я помню свою первую роль: надо все сыграть! Все! Сразу же! В каждой сцене! А потом ты смотришь на экран и, ой-ой-ой, как много всего сразу! А надо распределить сквозное действие, разложить его по полочкам.
— Пожалуй, я запишусь к вам на курс.
— Да. Сергей Петрович Юриздицкий – замечательный кинооператор! – на одной из первых картин сказал: «Ты меня так раздражал сначала!» Я думал: «Что он там так копается?» А потом я понял: ты роль общую складывал, не так, чтобы в одной сцене все выдать, а чтобы насквозь играть.
— Был человек, который вас сделал?
— Первая картина... Это ужас какой-то! Какой-то кошмар! Обезьяна какая-то! И все сыграть хотел! Мне казалось, чем больше я мимикрирую, тем более я талантливый. А потом Абдрашитов с меня все это смыл и сказал: «Вот так!» И все, понеслась другая жизнь. А потом они уже все: «Ах, какой мальчик! Какие глаза у мальчика! Он – молодой Василий Шукшин!» «Ой, нет, да вы что! Какой Василий Шукшин?! Он такой (бла-бла-бла)...» «Нет, ну какие глаза! Какие глаза!» ...Вы бы все знали, кто меня вообще научил в кадре существовать! Абдрашитов! А раньше (Максим корчит рожи, изображая себя в начале творческого пути – авт.) просто какой-то мультик был! А он привел меня в порядок. То же ведь режиссура.
— Речь про фильм «Магнитные бури», 2003 год?
— Уж столько лет прошло! А как он меня только увидел то? Привели какого-то мальчика... ничего особенного... а там вся Москва пробовалась! Что-то он во мне увидел... Что – не знаю до сих пор. Кстати с Абдрашитова меня начали все называть Максим Викторович, с 25-ти лет так называют.
— Вам не нравится?
— Мне все равно. Ну молодые артисты так называют, это по субординации. А так я не могу сказать, что прихожу и представляюсь: «Я – Максим Викторович!», но почему-то так. У меня и друзья многие меня так называют. Мама папу все время называла: «Аверин»... «Аверин! Пошли!» А я вот – Максим Викторович.

«Мне не надо, чтобы мама снилась, она всегда со мной...»
— Вы были для мамы продолжением ее любви к вашему отцу? Или сын – это отдельная субстанция?
— Мама, когда они с отцом еще были вместе, говорила мне: «Какие у тебя руки! У тебя руки отца! Красивые руки!» А когда они развелись: «Ой, убери эти свои руки! Господи!» (Смеется) Мама любила меня бесконечно, самозабвенно. Самая моя любимая история из детства, я всегда спрашивал: «Мам, зачем у меня на ногах две родинки? Зачем они нужны?» Ну это такой период у детей, когда: «Почему?» Мама гениально ответила: «А это, если вдруг я тебя потеряю, я тебя по этим родинкам найду!» ...И вот одна родинка то сегодня пропала...
— Пропала? После смерти вашей мамы? Как такое могло произойти?
— Не знаю, как-то незаметно пропала. Одна осталась, а другая исчезла.
— Мистика... Много в вашей жизни мистики?
— Я бы не сказал, что мистика. Мистика это из области не совсем для верующего человека.
— А вы – верующий человек?
— Я скорее верю в силы, которые тебя движут. Верю в то, что если загадать, то мечта сбудется.
— Мама вам снится?
— Очень редко.
— Что-то подсказывает?
— Да. Но очень редко. Так совсем очень мимолетно, иногда. Но мне не надо, чтобы она мне снилась, она со мной всегда. И это как будто... вот здесь она сейчас, рядом
— Вы мысленно советуетесь с ней?
— Нет, я с ней здороваюсь, но не советуюсь. Я вообще в жизни всегда принимаю решение сам, могу выслушать, поговорить, но отвечать то за решение мне.
— Это – высокая степень самостоятельности, это – тяжело.
— Но я такой уже, мне поздно меняться, только приобретать.
— Вам с собой комфортно? Или вы – самогрыз?
— Не то, чтобы я привык к себе, но я себя принял. Меня вполне мое эго удовлетворяет. Я знаю, на что я способен, чего я никогда не сделаю. В плане считать себя не подлецом. Уже вряд ли я им стану, для этого надо было как-то раньше проколоться. Я все время думал: сейчас дают ордена за честь и достоинства. А вот мне хочется прожить жизнь честно и достойно. По крайней мере, оказавшись там – если она есть, та жизнь – сказать: «Спасибо!» Это единственное, что бы мне хотелось.
— Вы счастливы?
— Да! Потому что для меня счастье – это не моменты, а сама жизнь. А уж если и в моменте! Вообще я считаю, что я очень счастливый человек. (Реплика в сторону – «И заплакал...» Разговор про счастье мы продолжили, закончив смеяться этому неожиданному пассажу. Авт.) Это не потому, что я так хочу думать. Нет! Это – правда. Даже в моменте, когда все плохо, я счастлив.
— А все плохо, это когда?
— Все плохо, это когда нет выхода. А сейчас выход, слава Богу, есть. А те моменты, когда не было выхода, они уже здесь... во мне... навсегда... Они никуда не денутся. Это все ерунда – про лечение временем. Ничего оно не лечит, никогда. Потому что настоящее горе – другое, и о нем говорить не хочу. Нет выхода только из гроба. А все остальное... Меня ситуации испытаний только взбадривают, мобилизуют – модное такое слово. Так что вот так.

«Племянник во мне особо не нуждается, но я ещё пригожусь»
— Два года назад вы рассказали мне, что у вас ушел из жизни старший брат. Получилось у вас остаться за старшего?
— Все достаточно сложно. Всюду жизнь... люди со своими характерами... Старший – не старший, ответственный – да. Но, может быть, не так, как хотелось бы. Я думаю, дети брата, мои племянники, вырастут и, может быть, я нужнее им буду. Пока просто у младшего переходный возраст, он уже юноша. Полина – взрослая девочка, у которой уже муж практически, уже все... Посмотрим, что дальше будет.
— Вы себя воспринимаете в роли их отца?
— Нет, Боже упаси! Отец у них один.
— Хотя бы наставника, крестного отца...
— Ну я и так Полинке крестный. Иногда она мне звонит, и я чувствую, что что у нее в этом есть какая-то необходимость.
— С мальчиком сложились отношения или сложно?
— Сложно. Он такой сам по себе парень, он – интересный, добрый, но у него сейчас такой период, когда я ему не особо нужен, как не странно. Потому что у него желание сейчас влиться во взрослые компании. Вот когда он натворит дел, тогда я... Хотя нет – он не натворит. Я в нем уверен, потому что он очень добрый парень. Но посмотрим.
— Это оказалось так тяжело?
— Не знаю, они привыкли без меня жить. Я сделал для них все, что мог, в момент той трагедии, а сейчас... Но жизнь же кончается не завтра.
— Вы не навязываетесь?
— Нет! Я им и в их детстве это говорил: «Всегда, если я нужен, есть телефон». За меня же никто никогда в детстве не решал. Меня воспитали самостоятельным человеком. Я всегда знал, что я хочу. Если мне нужны были деньги, я шел и зарабатывал. Если мне нужно было пойти в театр, я добивался этого сам, любым способом. Вы думаете, меня папа что ли за ручку в кино привел? Он привел меня один раз в пять лет, на этом все и кончилось. После этого я уже только сам в массовки бегал. Вообще у нас была такая жизнь, нас просто приводили на Мосфильм и оставляли. Конечно, тогда страна была другая, и жизнь другая.
— Вы тоскуете по той жизни?
— Тоскую. А вы заметили, между прочим, что все скулят и плачут по распаду страны и что все это действительно так. Падение СССР – одна из самых страшных трагедий века. Когда одни принципы, столпы были разрушены, а новых нет, что же в этом хорошего?! Я все время вспоминаю одну историю, когда очереди были километровые за молоком, за маслом, за яйцами, за мясом... Мясом! Каким мясом... за бумажными сосисками. Примитивный пример, наверное, не только же этим жили люди. Но я помню, как стояли в этих очередях и запах такого смрада, гниющих продуктов... Точнее, их отсутствия... И тогда один человек упал – эпилептик. ...И все продолжили стоять.
— Это в 90-е?
— Да, когда распад был. Я так испугался! Я же в первый раз такое увидел. Подросток... И еще я осознал, что никто ничего не делает, боясь потерять свое место в очереди...
— Так никто ничего и не сделал?
— Я уже не помню, чем закончилось. Просто впервые увидел, как бьется о землю человек и никто ничего не делает... Мы же при СССР жили не то, чтобы в коконе, а все-таки человек человеку был человек, а теперь человек человеку стал волк. Хотя волки в этом смысле все-таки держатся стаями, а мы все чух-чух и разбежались. Поэтому, когда говорят, дескать 90-годы – это такая романтика!.. А мне так жалко этих лет. Жалко просто, что они ушли совершенно на безвременье. Слава Богу, был институт, я поступил сразу в театр, это все-таки было спасением. Это спасло меня в жизни.

«Не знал, что вызываю у женщин чувство жалости, думал – другое!»
— Неужели совсем в ваши 16 лет не было романтики?
— Романтика никуда не девалась, она была. Чисто мальчишеская, бытовая. Мы были бесшабашными, хулиганами. Могли сесть в поезд и поехать куда угодно – к морю. В кармане у тебя ничего... А ничего же и не было! Сейчас ты едешь — Боже мой! – чемодан шнуров только одних, гаджетов, с аптечкой чемодан, чемодан того, этого – на все случаи жизни. А тогда плавки и ничего не надо больше было!
— А что вам мешает сегодня? Плавки и вперед!
— Не правильно поймут. Если я в одних плавках приеду.
— А вы про это не думайте!
— Я вспоминаю, бабушка моя работала младшим редактором в издательстве «Прогресс» на базе «Издательства иностранной литературы». Все время с печатной машинкой. Бабушки когда не стало в 98 году, я вдруг увидел ее квартиру. Знаете, когда больше нет хозяина и сразу все по-другому. Так вот я осознал тогда, что в ее однокомнатной квартире практически ничего не было. Ни-че-го. Ну там какой-то шкаф, кровать, какой то диван, где я спал, письменный стол, за которым я учился, и печатная машинка, пластинки. Все. И гардеробная бабушки. Наряды. Она модница была! И все. Больше ничего не надо было.
— Наверное, это правильно...
— Мне кажется, сама гармония – она не в стенах, гармония – она внутри. Если ты живешь в этой гармонии, надо ли тебе что-то еще...
— А вы любите красивые вещи? Мне кажется, что любите.
— Я люблю комфорт, мне он не то, чтобы важен, но... Хотя квартира моя – это гостиница: жизнь то перелеты, переезды. Но я всегда заполняю свое жизненное пространство, конечно. Вещи... Если в жизни были приобретены, то они мне дороги. Без чего я не смог бы жить? Без горячей воды не могу. Я, как Ихтиандр. Хотя и в холодной можно. Но вода должна быть! Телефон... Я по нему мало говорю. Я не знаю ни одного номера телефона! Ни одного! Я свой то иногда путаю. Потому что я не люблю говорить по телефону — не люблю! Я люблю общаться. А поскольку номер все время меняется, мне никто и не звонит, а зачем?
— Я знаю, вы дружите с женщинами. Композитор Лора Квинт мне рассказывала, как вы были у нее в гостях и она все хотела оставить вас ночевать. И Екатерина Рождественская как-то писала в соцсетях, дескать, вот, приходил Макс Аверин, я так хотела, чтобы он остался ночевать...
— Боже, какие я вызываю эмоции! Я не помню такого, чтобы меня хотели оставить ночевать …
— Нет, ну они же не в сексуальном плане...
— Я понимаю, хотели позаботиться.
— Видимо, вы у них вызываете...
— (Перебивает) Чувство жалости. (Смеется).
— Просто хотели пригреть, пообиходить, поопекать, взять под крылышко. Я хотела спросить — это обычное чувство, которое вы вызываете у женщин?
— Я не замечал такого... Думал, я вызываю другие эмоции...
— А вы вызываете заботу.
— Мне казалось, что это я всегда забочусь... Ну, опять же, это же их взгляд. С Лорой, кстати, недавно, случилась потрясающая история, мы увиделись и я сказал, что готовлю фестиваль Роберта Рождественского в Сочи в филармонии. А она говорит, что у нее есть песня на стихи Роберта, которые нигде не было опубликованы, как отдельное произведение, а были написаны вместе с музыкой. И мы буквально сделали две репетиции и зазвучала песня, вы знаете, какие там строчки? «Боже, Боже, знаю ты всесилен, Господи, прошу тебя, спаси страну Россию». Вот что значит поэт: актуальность сегодняшнего дня.
— Вы любите поэзию, это выглядит очень трогательно.
— С Катюшей Рождественский мы все время на связи, это дело моей жизни добиться, чтобы не относились к Роберту Ивановичу, как к советскому поэту песеннику – это преступление. Песни на его стихи все знают, но он – не поэт песенник, он – большой поэт! И я несу это знамя гениального поэта. Кстати, все забывают, а ведь это не друзья Высоцкого создали первый его самиздат «Нерв». А Роберт Иванович, который не был его близким другом. Но они с Аллой Борисовной Киреевой, его супругой, создали этот первый самиздат. Вся их квартира была заложена этими стихами, и Рождественский как-то воскликнут: «Господи Боже мой, какие же нервы это все разобрать!» И Алла сказала: «Вот тебе и название – Нерв». Не Вознесенский, не Евтушенко, а именно Рождественский. Сейчас Высоцкий и в таких книжках, и в таких... И пластинки, и все на свете. А тогда все его знали, и вроде особо не был запрещен, а стихи были изданы только в самиздате. И у нас дома была эта книга.
— Вы сами хорошие стихи пишете.
— Нельзя сравнивать, я – любитель
— Почитайте!
А жизнь пойдет своей чредой,
Мгновений счастья и разлук навеки.
И радость сменится бедой,
Беда не изменяет человеку.
Так в юности все кажется большим:
Любовь, деревья, люди, горы;
А после станет маленьким таким,
Чтоб поместилось в сердце впору.
И будет новый день и все вокруг
Наполнит еще больше смыслом.
Не в праздник, а вот так вот вдруг
Обрадуешься и обычным числам.
— Можно сравнивать, в поэзии не бывает любителей и не любителей: либо есть дар, либо нет.
— Будем верить, что это так.