ПЕРЕД ВАМИ — ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ — РЕЦЕНЗИЯ 1981 ГОДА
Господа, если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Беранже.
«Пролетарская мельница счастья» — уже из одного только названия видно, какую странную пьесу написал Виктор Мережко, какой странный спектакль поставил Povilas Gaidys. Ведь «пролетарское» — это что-то сегодняшнее, актуальное, политико-экономическо-социальное. А «мельница счастья»? Это ж типичный сказочный образ, славянский вариант греко-римского рога изобилия, рога Фортуны.
Политика и сказка — две вещи несовместные. Как, зачем, да и можно ли их соединить? Оказывается, можно, и есть зачем.
Действие происходит в русской деревне 1920-х годов. Коммуны, комбеды, разруха, классовая борьба… Уместен ли в устах современного автора первозданный пафос, некий ура-патриотизм, когда речь идёт о тех жестоких, теперь уже легендарных временах? Одно дело — взгляд из гущи событий или работа по их горячим следам. Другое — дистанция более чем в полвека. С такой дистанции писалась «Война и мир», да и на наших глазах минуло 30–40 лет после начала Великой Отечественной, прежде чем появились такие военные произведения, как, скажем, книги Василя Быкова — не только гораздо более сильные, чем военная проза 1940–1950-х годов, но и вообще невозможные в то время.
«Лицом к лицу лица не увидать». Только на расстоянии можно увидеть целостную картину, а не отдельные её фрагменты. Когда же дистанция измеряется не километрами, а десятилетиями, то мы не только получаем возможность охватить взглядом всю панораму, но и успеваем стать немного мудрее. Не настолько, конечно, чтоб не совершать всё тех же ошибок в настоящем, но вполне достаточно, чтобы понять ошибки прошлые. С пониманием приходит ирония, столь присущая мудрости вообще.
Вот почему пьеса и спектакль закономерно ироничны. Более того, нам стоило бы считать странной не «Пролетарскую мельницу счастья», а те современные пьесы о революции или коллективизации, где — искренне или нет — пытаются копировать бескомпромиссные агрессивные интонации «Поднятой целины».
Итак, в реальной русской деревне 1920-х годов появляется будёновец Стёпка — парень, уверяющий, что может построить мельницу счастья. А тогда — всего будет вдоволь, у всех появится всё желаемое.

Верит ли в это он сам? Не имеет значения! Важно, что поверили другие. Поверил председатель комбеда, выделил сарай, дал охрану. А как только появилась охрана — поверили и все остальные: не станут же охранять чепуху. Раз охрана, тайна, значит — важное!
Стёпке отступать некуда. Он вынужден продолжать комедию, по возможности оттягивая развязку. Председатель же тем временем реквизирует для мельницы счастья все колёса, какие только есть в деревне. Все телеги остаются без колёс, но ничего не поделаешь: надо идти на временные жертвы ради светлой цели, ради мельницы счастья, которая «будет работать без керосина, без лошади — одним воздухом!»
Смешно и грустно смотреть, как люди жертвуют всем ради «воздуха».
Колёса собраны. Стёпка уверяет, что теперь нужны цепи, «все цепи, какие только есть: без них дело скиснет!» И местный богатей, поверивший, как и все, в пролетарскую мельницу счастья, скупает цепи, чтобы, став монополистом, диктовать свои условия при распределении будущих благ — будущего «счастья из воздуха».
На общем собрании дело дошло уже до составления списков: кому и что необходимо. Могущество мельницы беспредельно: нужна изба? — будет изба! лошадь? — пожалуйста! жену? — можно и жену…
Мережко перепутал сказку и реальность. Деревня — реальность, а Стёпка — тот самый Иванушка-дурачок, которому ничего не стоит «пойти туда — не знаю куда, принести то — не знаю что». Впрочем, автор ли виноват в путанице? Разве все мы живём в полностью реальном мире? Разве не сказка некоторые обязательства, встречные планы и тому подобное? Разве и сегодня мы не жертвуем миллионы на строительство очередной потёмкинской деревни, очередной «мельницы счастья»?
Блестящее сценическое решение нашли для всех этих мыслей режиссёр Gaidys и художник Mazuras. Реальная русская деревня? — что же может быть реальней навозных куч? Сказочность? да ещё русская, да ещё в такой пьесе? И вот посреди невзрачных куч встала огромная яркая матрёшка.

Ничего лучше матрёшки, думаю, найти было невозможно: так много смысловой нагрузки принесла она на сцену. Во-первых, кукла — это уже игра, уже театр, уже сказка. Далее, матрёшка во всём мире — символ России, причём России исконной, деревенской (хоть и продаётся этот символ в больших магазинах больших городов).
А в этом спектакле матрёшка означала не только сказочную антитезу реальности, не только красоту мечты посреди неприглядного быта. Матрёшка ведь пуста! Это, быть может, самая философская из всех игрушек. Раскрываешь одну — там другая, раскрываешь другую — там третья… точь-в-точь как доискиваемся мы ответов на мучительные вопросы, срывая пелёны лжи, пробиваясь к правде… И как же бывает поражён иностранец, впервые столкнувшийся с матрёшкой уже взрослым, когда он, разъяв последнюю, обнаруживает, что в такое количество красиво раскрашенных одёжек был упакован крошечный кусочек пустоты. Воздуха. Не тот ли это воздух, на котором должна работать мельница Стёпки.
В этой-то матрёшке, в этой яркой материальной форме, столь откровенно демонстрирующей полное отсутствие всякого материального содержания (при избытке идей!), в этой-то пустой огромной кукле трудится Стёпка; она же обозначает то комбед, то избу крестьянина… Её же, эту пустышку, охраняют три мужика, они — яркий пример того, как режиссёр свободно совмещает реальность и миф: охрана одета в сермяжные портки и рубахи, вооружена простыми кольями — мужики как мужики. Но вот они встали перед охраняемым объектом, пристально вгляделись в даль, приняв соответствующие позы, и — зал расхохотался, потому что все вдруг увидели пародию на знаменитую картину «Богатыри» Васнецова.
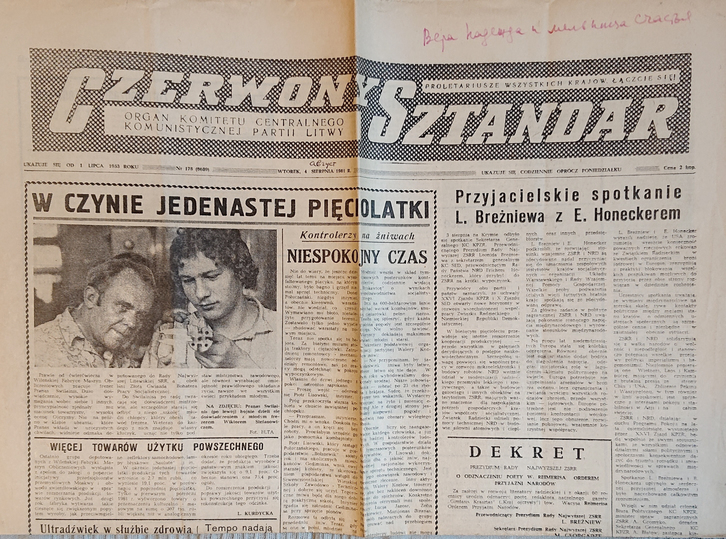
В таком жанре, как притча или, точнее, лубок, для тонкой психологической актёрской игры нет места. Но многим исполнителям удалось сделать своих героев точными, запоминающимися и удивительно объёмными. Таков растерянный интеллигент-учитель, который должен немедленно — научно и совершенно честно! — ответить: может ли мельница счастья «работать воздухом»? Только вот честный научный ответ обязательно должен быть таким, какой угоден сердитому и, надо добавить, вооружённому председателю комбеда. В другой раз бедный учитель будет судорожно искать «честный научный ответ» на вопрос: скиснет мельница счастья без цепей или не скиснет? Сам председатель — Laucewiczius нашёл поразительную интонацию для своих сложных монологов. Он произносит зажигательные, хотя и несколько неуклюжие речи о будущей жизни, о счастье, о «текущем моменте», и невозможно уловить: серьёзен он или ироничен? обращается он к зрителям или к односельчанам? Образ раздваивается: председатель комбеда серьёзен с мужиками, а Laucewiczius — саркастичен с публикой.
…В финале вера в счастье «из воздуха» уже настолько сильна, что она материализуется в несчастье. Стёпку убивают враги, чтобы бедноте не досталась мельница счастья. И — парадоксальный факт — это убийство, наверное, единственная возможность пустить мельницу в ход. Да-да, несуществующая мельница заработала! Гибель Стёпки председатель скрывает от деревни. Он говорит, что Стёпка просто ушёл, ушёл в другое место, и там скоро достроит пролетарскую мельницу счастья. А пока… пока надо работать, надо работать, надо работать.
На опустевшей сцене распахнутая настежь матрёшка. Она демонстрирует нам свою абсолютную пустоту, как бы говоря: не верьте в утопии — к добру это не приведёт и не накормит.






















