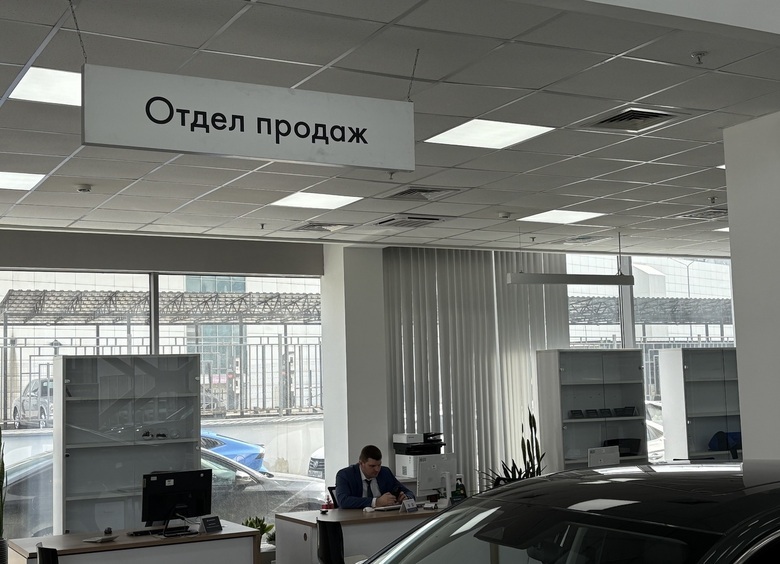— Я имею отношение к цензуре, потому что мой дальний предок был председателем театрального комитета во времена Николая I и оставил два тома записей. Он был не прямой цензор, но человек, отвечающий за репертуар. В течение десятилетий он каждый день посещал театр и каждый день записывал, кто играл, как, кто присутствовал из зрителей, какова была реакция… Я продолжаю его труды — хожу на свои спектакли и все записываю. Иногда хожу на чужие и тоже записываю. Мой предок не был ни либералом, ни прогрессистом, но честным и вполне образованным человеком. Его звали Степан Жихарев.
— Но сейчас цензуры нет.
— А вот вы меня застали за очередным сценарием, который мне предлагают. Толстенный фолиант. Читаю. Но одной вещи не хватает — имени автора.
— Авторам стыдно?
— Наверное. Эта махина написана неизвестно кем. При цензуре, которая имеет хоть какой-то художественный потенциал, фильм по такому сценарию никогда бы не появился. Но ведь эта тягомотина будет снята. Наверное, человек, который это исполнил, просто находится в списке тех, кого надо привлекать. Никакой любви к цензуре у меня нет, я нюхнул этого дела достаточно, но никогда мы не встречались с таким количеством макулатуры, которая идет в дело. А ведь для этого деньги находятся.
— Понятно, это вас сильно волнует. Но других людей волнует ваш юбилей.
— К нему я готовлю оригинальный одноразовый спектакль. Очень много работы. Но своим юбилеем я никому ничего не хочу сказать. Это не отчет, а художественное произведение. Люди привыкли, что юбилей — это сидение в кресле, а к имениннику выходят его коллеги, друзья и приятели с папками, подарками или букетами.
— Ну и дежурное поздравление от Медведева—Путина…
— Нет, Медведев—Путин — это большая честь. Цензура же заменилась отмашкой. Ко мне приходят журналисты, берут интервью, а ведь им просто дали отмашку. Большинство просто не знает, чем я занимаюсь. Если человек идет к музыканту, он должен хоть немного разбираться в музыке, а если к физику — то в физике. Сейчас Интернет заменяет все, там на “ф” — физика, на “м” — музыка, на “ю” — Юрский. Я не знаю, что лучше — отмашка или цензура. Представляю, как в какой-то редакции говорят: пошлите Люду к Юрскому, она сейчас свободна.
— Вас раздражает огромное присутствие непрофессионалов в сегодняшней жизни?
— Да! Страшное падение профессионализма. Отмашка приведет к ужасным вещам: к полной дискредитации самого содержания людских разговоров, а впоследствии прессы и театра.
— Действительно, очень многих достойных людей вспоминают только в дни их юбилеев, а потом спокойненько забывают на пять лет.
— Поверьте, я совершенно не обижен жизнью, типа вот вы меня не спрашивали, а теперь пришли, когда юбилей… Я обижен другим: публика, для которой я работаю вот уже 55 лет, в зале есть, но большинство журналистов, которые приходят ко мне и задают вопросы, не входят в число этой публики.
— Но вам-то чего расстраиваться? Можно ведь и не принадлежать к мейнстриму, а быть самому по себе и при этом все равно иметь свою публику. Вы — живой этому пример.
— А я и в Советском Союзе был сам по себе. Да, при этом многого не был удостоен, но мог жить. И я жил. Но хвастаться, вроде: вот я такой, а остальные не такие, — не стану. И сегодня есть вещи, которые меня восхищают, радуют, — прекрасные фильмы, книги, спектакли, и этим можно жить.
— Самое главное — есть выбор.
— Слишком большой выбор. Люди дезориентированы, отсутствует компас, либо он поддельный. Нужны некие авторитеты, учителя, которые были бы нефальшивыми. А на это нужно тратить много десятилетий и много денег.
— Но так, может, хватит уже людей учить. У них есть прекрасная возможность жить своим умом.
— Но эта волна некомпетентности нас всех сметет. У нас снимают очень хорошие, оригинальные, умные фильмы, но они проходят мимо. Их никто не смотрит. Может, этот вопрос к зрителям, а может, и к прокатчикам. Наверное, они уже заранее думают: нет, это люди не поймут.
— А если это нормально? Поэты раньше тоже собирали стадионы, а потом мода на них прошла и остались лишь истинные ценители. Или фильм “Покаяние”, на который сначала ходили огромные толпы, а меньше чем через год, помню, на сеанс пришли 15 человек, из них половина во время просмотра вышла. Может, настоящее искусство не должно быть массовым?
— Кино не имеет права быть совсем уж для меньшинства. Не для всех — совсем другое дело. В центре Парижа, в маленьком кинотеатре, идут такие фильмы, но каждый по целому году. А у нас по-другому: премьера в Доме кино, где не протолкнуться, а потом в прокате ее крутят два дня в зале на 150 человек, и такой фильм умирает. Все стало коммерческим. Вот по ночам я смотрю по телевизору американское кино, выбор разный, но качество есть всегда. Почему у них стрельба не обязательно в десятку, но никогда не в молоко? Я понял: в наших фильмах ужасающие тексты. Сыграть это нельзя. У нас кто договорился, тот и снимает.
— Как часто вы сейчас выступаете с поэтическими вечерами?
— Я даю не более четырех концертов в год. И не потому, что хочу быть таким уж эксклюзивным. Я мог бы и больше. Просто возраст и обязанности театральные, съемки в кино, невозможность совмещать. Надо как-то беречь силы.
— Вы ощущаете свой возраст?
— Ощущаю.
— Вы можете себя представить пенсионером? Не хочется просто отдыхать, гулять, путешествовать?
— Нет, это нереально для меня. Я не могу уже выйти из этого круговорота.
— Бывают и большие юбилеи, чем у вас, но маститые именинники при этом так напрягаются…
— Больших юбилеев не бывает, после 75 идет 100. Юбилей — это то, что делится на 25.
— Но ваши коллеги, отмечающие круглые и не очень даты, неимоверно волнуются, ожидают чего-то от других: кто пришел, кто что сказал…
— Я ничего не ожидаю, потому что сам даю свой новый спектакль на сцене театра Моссовета в первый и в последний раз. Это будет в первом отделении, а поздравление — уже во втором, к которому я отношения не имею. Я заказал несколько поздравлений, поэтому примерно понимаю, как это будет, что называется “концерт по заявкам”. А играть я буду “Мольера” Булгакова, Бергмана и Островского.
ФОТО

— Вам знакомо такое чувство, как зависть?
— Мне знакомы и зависть, и обида, и бешенство. Я все это знаю.
— Зависть белая или черная?
— Белой зависти у меня нет. Если мне что-то нравится и я чем-то восхищаюсь, зависти вообще не испытываю. Зависть бывает к несправедливости, когда раздувают то, что представляется не только слабым, но иногда и бесконечно вредным.
— Но нет ведь ничего идеального, все ошибаются. Разве у вас не было провалов?
— У меня как в Голливуде: я могу сыграть лучше, хуже, но провалов не было никогда. Я — профессионал.
— Но вас разве не раздували? Вот сыграли вы неубедительно и сами это прекрасно понимаете, а про вас все равно говорят: о, великий Юрский!
— Тогда я думаю: ну о чем мне с этим человеком говорить? Хотя он может быть и моим приятелем.
— А разве вы не любите, когда вас хвалят?
— Нет, я люблю, когда меня понимают. Когда есть что сказать в ответ. В этом смысле я избалован, конечно, так как участвовал в нескольких спектаклях, которые стали общепринятыми, и нескольких фильмах, которые стали народными. Так что я обойдусь без похвал, а вот без понимания могу увянуть совсем. Но я хорошо знаю, что меня понимают в “МК”. Это газета, которую я уважаю. Могу с чем-то не соглашаться, раздражаться, но ее уровень очень высок. Здесь заметили и отметили то, что для меня составляет сегодняшнюю жизнь. Это спектакль “Предбанник”. В “МК” ему дали премию как лучшему спектаклю года, а ведь нигде больше его не заметили вообще. Не для похвал я это говорю. Я живу без премий, никогда у меня их не было — ни общественных, ни государственных, но я дорожу этой скромной, веселой, почти шутливой премией “МК”.
Когда была трагедия с “Курском”, Ванесса Редгрейв собрала деньги у актеров в Лондоне и между двумя спектаклями рванула сюда, чтобы передать их. Она решила помочь непосредственно родственникам погибших моряков. Это собрание родственников было устроено в “МК”. Я участвовал в этом мероприятии. Хотя все кончилось абсурдом, люди так и не поняли, что это за деньги, потому что это были фунты стерлингов, не поняли, кто такая Редгрейв. Не поняли и кто я, который ее представлял. Они вообще ничего не поняли. Но этот жест “Московского комсомольца” я ценю и помню.
— Спасибо, это приятно слышать. А от чего же вы впадаете в бешенство?
— От наглой бездарности, от самодовольства, от фальшивых рекламных оберток, внутри которых находится обычная, серая конфета, цена которой три копейки за десяток.
— На днях опять показывали “Любовь и голуби”. Вы там играете деревенского старика-алкаша, хотя на самом деле вам в ту пору было всего 49 лет. До сих пор так хорошо чувствуете и понимаете простого человека из народа?
— Люди очень разные, много вижу задавленных жизнью. Я не очень часто разговариваю с корреспондентами, не выступаю на собраниях, не хожу на фестивали, но с простыми людьми общаюсь с удовольствием. Продавцы во всех окружных магазинах не только меня знают, но и я их знаю. В больницах очень хорошо знаю не только врачей и пациентов, но и медсестер, нянечек. Настоящие деревенские отличаются от городских необычайно, это вообще другая национальность… “Любовь и голуби” снимали в Карелии, в Медвежьегорске. Там почти все пространство было занято концлагерями, ГУЛАГом. Дядю Митю я играл с большим внутренним сочувствием и с удовольствием. Но самая, может быть, выразительная достоверность этого человека заключалась в том, что нас с Наташей Теняковой забрали в милицию.
— За внешний вид?
— За попытку войти в ресторан в таком виде. В перерыве между съемками мы отправились туда поесть супа, но нам дали понять, что кормить не будут. Я начал выступать от имени народа, типа “есть надо всем, у вас тут нет других ресторанов”, а нам в ответ: идите отсюда. Кончилось тем, что вызвали милицию, а милиционер сказал: хорош разговаривать, сейчас в отделение поедем. Потом уже у меня была творческая встреча с милицией. Я им читал Шукшина и пытался объяснить, что нельзя встречать человека по одежке. “Конечно, — говорю, — ресторан действительно требует, чтобы люди были одеты соответственно, но у вас ресторан — говно. И ходят-то к вам кто — ваши бандиты. Они для вас более привычны?”
— Значит, дресс-код не прошли… Можно немного личного? Вашему браку с Натальей Теняковой через месяц будет уже 40 лет. Но вы же еще были женаты на Зинаиде Шарко. Недолго?
— Семь лет. Наверно, у нас случались внутренние разлады, и если говорить откровенно, сказалась наша с Зиной разница в возрасте. Все-таки лучше, когда мужчина старше. Зина же и актриса великолепная, и личность замечательная. У нас были очень счастливые годы в браке. Сначала мы творчески сильно сошлись, но потом так же и отошли друг от друга в разные стороны. Сейчас я безумно радуюсь за Зину, видел две ее последние роли — одну в кино, другую в театре. Это блестяще! Ну а с Наташей наш союз стоит, кроме всего, на 25 совместных ролях в кино и театре. Это очень серьезно.
— Думаю, вы всегда были против звериной серьезности по отношению к чему бы то ни было.
— Правильно, но также я против заказного непрерывного юмора. Это тоже невыносимо. Я смотрю телевидение, но когда приближаются праздники, мне становится не по себе.
— Недавно вы стали второй раз дедушкой.
— Да, младшему внуку теперь уже семь месяцев, а старшему семь лет. Но я до сих пор не могу их постичь. Они совсем другие. Со старшим, Георгием, мы ходили в театр на “Тома Сойера”, после этого я ему подарил книжку, но будет ли он ее читать, не знаю. Георгий со всеми механизмами на ты, а я их боюсь. А компьютером и мобильным телефоном он уже владеет в совершенстве. Сейчас вот я радуюсь, что он стал замечать котов, которые живут у них и у нас. Ну а младший Алишер пока в кошке видит свою подружу, ползает за ней. Меня это радует.
— Насколько при всей вашей духовности для вас важно материальное? У вас есть зависть к богатству людей вашей профессии?
— Не-е-ет! И не было. Хочу вам процитировать Библию, одного из пророков: “Когда я уйду, когда кончатся мои дни, Боже, я буду либо с благодарностью говорить, что так было, либо, если меня призовут, а еще останется жизнь, буду просить об одном: удали от меня суету и ложь, не дай мне, Господи, нищеты и богатства, корми меня хлебом насущным”. Можно лишь посочувствовать тем, кто желает себе богатства.
— А были случаи, когда вы отказались от очень большого гонорара по каким-то более высоким причинам?
— Разумеется, и неоднократно. Правда, у каждого свое понятие большого гонорара. Я не дешевый артист. Но на гонорарах еще никто никогда не восходил к богатству.