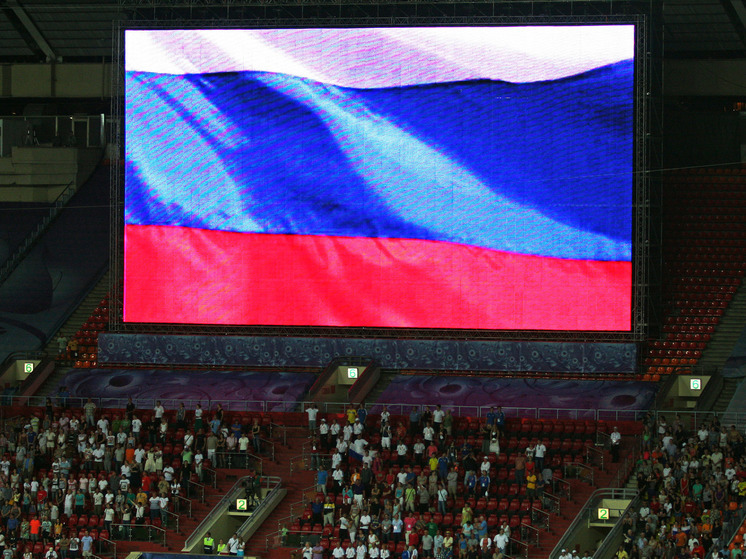— Сначала скажу, что я впервые в «Московском комсомольце», знать не знал, где вы находитесь, ехал на метре, потом шел пешком.
— Ехал на метре в пальте?
— На самом деле у меня глаза на лоб на вашу редакцию, на ваш конференц-зал. Все газеты в Екатеринбурге погибли, осталась одна областная, которую спонсирует губернатор Свердловской области, и там печатают указы, приказы и прочее. Газеты «Уральский рабочий», в которой я начинал и где в 82-м году был опубликован мой первый рассказ «Склизко!», тоже нет.
Я жил в городе Свердловске (теперь Екатеринбург), мой дом был на Ленина, 46, и он назывался «Дом артистов». Там жили все знаменитые артисты: оперные, звезды комедии, драмы. Окно мое выходило на типографию «Уральский рабочий», и когда мне говорили: «Завтра ваш рассказ будет напечатан», я ложился на окно и смотрел, как в типографии бежала газетная лента. Смотрел и думал: «Завтра рано утром пойду в киоск, куплю газету». А утром бегом к киоску, купишь газету за 2 копейки, открываешь, а там написано: Николай Коляда, рассказ. Какое это счастье было!
— Рассказ тот был маленький…
— Неважно, все равно счастье. Это же было впервые, самое начало… Так это я к тому, какие вы все-таки счастливые, дай бог здоровья вашему главному редактору. Как же все зависит в жизни от человека, который руководит, все организовывает и который понимает, как и что надо делать. Как говорится: «Живи и дай жить другим», понимаешь?

* * *
— Давай мы все-таки будем говорить про тебя и театр, а не про газеты. Ты сейчас привез в Москву 34 спектакля. Выходя на сцену, каждый вечер ты благодаришь москвичей: «Спасибо вам, дорогие зрители, благодаря вам мы существуем, мы в Москве живем в хорошем отеле, а не в хостеле. Нам никто не помогает…»
— Да, кланяюсь каждый раз, и мне не стыдно. Как моя сестра говорит: «Коля, лучше просить, чем воровать». Я стою после спектакля или перед ним в фойе, кричу громко: «Купите, пожалуйста, книги мои, программки, я подпишу. Каждый ваш рублик — это зарплата нашему коллективу». Ничего плохого в том, что ты не своровал, а заработал, нет. Я всегда говорю: выйди на улицу, попроси 10 рублей — тебе кто-то даст? Нет. Заработай. Да, мы скоморохи, мы пляшем, танцуем, поем песни, потом «нажимаем» на глазные яблоки и заставляем людей плакать. Или не заставляем. Но ничего постыдного в этом нет.
— Ты показал Москве свою последнюю премьеру «Тарас Бульба», актуальное и мощное высказывание словами Гоголя о сегодняшнем дне. Начал работу до СВО. Почему продолжил? «Тарас Бульба» — риск со всех позиций.
— Я «Тараса Бульбу» читал в 8-м классе и помню из повести только «Чуден Днепр при тихой погоде…» и еще «Я тебя породил, я тебя и убью»… В ноябре 2021 года я ставил «Вишневый сад» в Польше, там написал инсценировку первого действия «Бульбы», а когда прилетел домой, начал репетировать. Помню, как репетировали, как я кроил костюмы прямо на полу своего кабинета, как в пледах, которые по 600 рублей, дырки вырезал, чтобы их на себя можно было напялить. Потом посмотрел фильм Бортко: там — кони, убийство, кровь, всякие богатые изобразительные средства киношные и, конечно, Богдан Ступка, который так играл старого Бульбу! Я тогда подумал: «Ну, а как в театре это сделать?»
Сделал перерыв на Новый год, а 12 февраля сказал: «Надо отдОхнуть», прям как в пьесе «Ревизор» — «отдОхнуть». Полетел в Египет, а в конце февраля началось то, что началось. И я лежал в гостинице, смотрел в потолок от всех этих новостей… Не мог идти на пляж. Меня прокляли все мои друзья французы, поляки, немцы…
— Все как один?
— Слушай, все. Дружбан один сказал: «Ну что, полетишь на украденном «Боинге» (он другое слово употребил, матерное)?» Я ответил: «Ничего я ни у кого не воровал» и забанил его… Знаешь, таких друзей хоть за что-то и в музей, раз вы меня считаете виноватым… А ведь они хорошо знают меня: вместе пили, ели, вместе спали на полу. Спектакли ставили, премии получали, чего только не было. Я ушел из соцсетей, больше не могу слушать эти проклятия, остался только в одной — там у меня мои студенты. И в театре брожение немыслимое, многие говорили: «Нельзя ставить Гоголя, не тот случай, не та ситуация».
— А у тебя самого внутри не было такого: «Коля, стоп», что «Тараса Бульбу» сейчас ставить не время?
— Я вообще не люблю, когда мне кто-то приказывает: так делай, так не делай… Артист, который был назначен на роль Бульбы, пришел ко мне: «Я не могу в этой ситуации…» и начал говорить, за кого он… Знаешь, я так орал, думал, что упадут стены в моем кабинете. Я бросал стулья, кричал, что это предательство, подлость. «Ты со мной столько лет, сейчас ситуация, когда все рассыпается». Я мог бы сказать: «Ну, все, поехали в Казахстан. Уедем в Латвию. Давайте все проклянем здесь и разъедемся». А я сказал: «Ну-ка собрались, будем делать «Бульбу».

— Но некоторые твои коллеги уехали тут же.
— Ну и пошли они. Бог им судья: не судите, и не судимы будете. Это не мое дело, что они там делают. Мне надо в моем огороде, в моем театре цветы садить. Наше поле битвы вот оно — сцена. «Идите туда, — говорю артистам, — и придуривайтесь». 28 мая была премьера «Тараса Бульбы», играли весь июнь и в августе, а потом в Москву привезли. Знаешь, рыдают все— и те, кто за белых, и те, кто за красных.
На поклонах я обычно не смотрю в зрительный зал — боюсь взглядов. Смотрю на какую-то полоску между балконом и партером и кланяюсь Богу. А там как будто лицо мамы, папы, лица любимых людей — я им кланяюсь. И вчера, знаешь, случайно у меня взгляд упал в зал. Когда увидел, что плачут мужики и бабы, я сам чуть не разрыдался. Я был в белом свитере, и после спектакля подошла ко мне какая-то девочка, рыдает, прижалась ко мне, ее трясет, всю косметику оставила у меня на плече. «Простите», — говорит, а я: «Да черт с ним, постираю».
Там песня в конце: «Девочки, молите Бога, чтобы кончилась война, а не кончится война, не выйдет замуж ни одна». Там и для белых, и для красных говорится: если вы не выйдете замуж, значит, не родятся дети, значит, род наш не продолжится, значит, не будет колоситься в поле пшеница, не будет хлеба, не будет картошки, корову некому будет доить, не будет жизни. Молитесь, чтобы мир наступил в конце концов. А он должен наступить, не может быть, чтобы это продолжалось бесконечно.
После премьеры «Бульбы» я почувствовал, что кто-то хочет меня на какую-то полочку положить: вот Коляду — туда, а не сюда. Это не значит, что я сижу на двух стульях. Я — художник. Мое поле битвы здесь. Я не могу облить себя бензином, выйти на Красную площадь протестовать или еще что-то делать. Могу только поставить спектакль. Я — скоморох, я маленький, маленький человек. Но при этом большой-пребольшой. Я могу вызвать эмоции в зрительном зале, что и делаю. А уж там пускай каждый решает… Что-то я разорался…
— Это кокетство — «я маленький»… Представила на твоем месте кого-то из режиссеров, которые не скажут, что они модные или на худой конец современные. Если тебя называют «великий Коляда», твоя реакция?
— Смеюсь. Послушай, какое кокетство. Вот библиотека Белинского, главная у нас в Екатеринбурге, издала книжку к моему 65-летию — «Метод Коляды», Лена Соловьева автор. Я открыл первую страницу, о боже, как будто я помер, и возле моего гроба говорят: «Он был великий, величайший гений». Гений из удобрений, ха-ха. Понимаешь, слава тебе, Господи, мне повезло в жизни, что я никогда на себя генеральские погоны не напяливал и не воображал. Я работяжка. Приду перед спектаклем в театр, если пол грязный, я его помою — корона с головы не свалится. Я всегда, кстати, так и делаю. В Польше, помню, мыл пол, а уборщица стала вырывать у меня швабру. Артисты ей закричали: «Не надо, он всегда так делает». Стоит мой театр чего-то или нет? Стоят мои пьесы чего-то или нет? Это будет известно через двадцать лет после моей смерти. А сейчас чего, я такой великий сяду, черные очки, шарфик, и буду перед тобой воображать. А ты скажешь: «А чего ты выламываешься (другое слово скажешь)? Коля, что с тобой?»
* * *
— С виду твой театр ну совсем малобюджетный. Нашли что-то в бабкиных сундуках, напялили на себя и давай играть. Какой у тебя самый высокобюджетный или, наоборот, малобюджетный спектакль? В Москве театральной люди меряются бюджетами: у одного 50 миллионов стоит спектакль, а у другого всего 12 миллионов — ой, как стыдно.
— Вот ты видела спектакль «Тарас Бульба». Скажи, красивый?
— Очень красивый и очень страшный.
— 30 табуреток по 200 рублей, купленные в магазине «Максидом». 30 умножим на 200. А сзади много старых тряпок, которые порвали, связали и повесили. Шапки синие на парнях (их 20) — по 99 рублей в эконом-маркете. Поварешки по 50 рублей (40 штук). Ты считаешь?
— Уже сбилась.
— А там больше ничего и нет. Хотя еще четыре бревна, найденные на помойке, канализационные трубы, которые мы обвязали веревками. Костюмы все из подбора, из сказок. А шапочки у девчонок… Я им сказал: сами свяжите, у нас есть старые пуговки — нашейте…
— Грубо говоря, 50 тысяч стоил «Тарас Бульба»?
— Думаю меньше — тысяч 30.
— Зато в спектакле «Анна Каренина» богатые костюмы — все-таки светский Петербург. И джинсы на Каренине, Вронском и прочих господах, расшитые пайетками, блестками?..
— Да перестань, это все барахло, которое нам отдали из театра драмы. Просто джинсы нам принесли люди. Нам же много несут: у кого родные умирают — нам приносят. А девочки сделали на джинсах аппликацию из пайеток. Каждая получила за это 500 рублей. Смотрится невероятно красиво, а это — просто джинсы. Свою рубашку я отдал Никите Рыбкину — он Вронский. И видишь, у всех на запястьях красные и синие ленточки. Я им сказал: «Ребята, не забывайте их надевать, вы как будто самоубийцы и вы прикрываете порезы. Это мотив смерти…»

— Хочешь сказать, что ты ни разу не вышел из бюджета в 100 тысяч? Рублей, разумеется.
— Откуда у меня такие деньги? Вот сумка у Анны — из эконом-маркета, 400 рублей. А белое пальто на ней — это мы с парнями поехали на рынок, а у меня там работает подружка Ася. Она сказала: «Пойдем к китайке, там белые красивые есть». Пришли, китайка нам надавала двадцать шуб — все стоило тысяч 14–15. А Ася: «Не платите, Николай, я заплачу за вас». — «Мне неудобно». — «А мне удобно. Надо театрам помогать».
Зачем я эти тайны открываю?! Это же нехорошо. Все же копейки, из каких-то сундуков, завалов, бабушек, но смотрится идеально. Для меня в «Карениной» самое главное — паровоз, который висит сзади. Мы были на Севере, в каком-то ДК выступали. Я вошел в фойе, и там — блестящая конструкция, вокруг висят шарики, цветы, еще что-то. Подошел поближе, потрогал, а она вдруг зазвенела: дзинь-дзинь. Я сразу: «Паровоз, паровоз…» И попросил продать…
* * *
— Любой человек, слушая тебя, думает: «Это же так просто делать театр». Берешь белый стаканчик из пластика, из которого пьют воду, повесил на веточки — и вот тебе «Вишневый сад». А у душегуба Ричарда в «Ричарде III», квинтэссенция душегубства, — спитой чайный пакетик на ниточке. Скажи, ты во сне это видишь — артист Ягодин с пакетиком во рту?
— А выпить из тазика грязную воду, которую пьет Ягодин? Другой скажет: «Фу, как я могу», а он пьет из этого тазика грязного.
— Я думала, ему там реквизиторы кофе разводят.
— Сейчас, кофе…
— Мало того что ты Карабас-Барабас, ты еще и жадный Карабас, на кофе экономишь.
— Я пошел на репетицию «Ричарда III». Взял пьесу, взял пепельницу, повернул голову, а у меня на окошке стоит коробка с чайными пакетиками. Думаю, а почему бы из этого не сделать театр, это же очень просто? Вывалил коробку на сцену, сказал: «Давайте работайте». Главное тут — образ. Что такое чайный пакетик? Если его разорвать, там пыль. Там то, во что мы все превратимся. Мы все помрем и станем пылью. Эта пыль — образ смерти… Когда они держат эти чайные пакетики во рту, цепляют на грудь, как орден, или друг другу передают, я понимаю, что они держат в руках чью-то смерть.
— Коля, твой метод — из ничего. Просто, наивно и поэтому честно. Такой принцип от безысходности?
— Это условие частного, нищего театра. Я работал в больших театрах, поставил десять спектаклей в Польше, в «Современнике» два спектакля или один в Театре Вахтангова. В Польше на спектакль «Двенадцать стульев» в Катовице мне не подобрали, а сшили 200(!!!) костюмов. Я говорил: «Не надо». А они: «О, пан Коляда, чего хочешь тебе сделаем». Потому что там — художник, ассистент художника, хореограф, ассистент хореографа, художник по костюмам, ассистент художника по костюмам, два переводчика. Мне там не надо ехать на рынок покупать какие-нибудь поварешки — все принесут.
Но знаешь, как говорят: «Из курочки сварит суп и дурочка». Когда есть деньги, чего же не размахнуться. А если денег нет, так давайте возьмем чайные пакетики. Вот ты говоришь, стакан. Одно дело, если я просто держу его, другое, когда оживляю. Артист должен оживить неживой предмет, тогда это превращается в чудо, в каменный цветок. В это же надо вдохнуть жизнь, перевернуть. Что угодно можно сделать, даже со стаканом…
— Если к тебе придут и скажут: Николай Владимирович, вы нас так убедили своим великолепным искусством, давайте-ка мы вам дадим огромный бюджет, целых полмиллиона. Вот что ты сделаешь?
— Полмиллиона долларов?
— Рублей.
— Отдам на зарплату артистам, если не надо отчитываться за эти деньги. Не стану делать спектакль, шить костюмы… Когда приходишь в какой-нибудь театр, видно, что артисты выходят в костюмах, которые сняты с вешалки. Они неживые, это мертвые костюмы, сшитые. А если еще и плохо сшитые, и ткань тянет… А мои — живые. Публика все равно любит картинку, 90% воспринимают глазами… Поэтому всю картинку надо придумывать.
— Хочу понять, каким ключиком ты открываешь классику — Чехов, Гоголь, Шекспир, Лермонтов, Уильямс…
— Ключик? В «Анне Карениной» мне очень важно, что: Вронскому — 21 год, а Анне — 26. Я знаю несколько историй из своей жизни, они, что называется, неравный брак. Когда надо ровню себе брать, но Анна решила, что Вронский — ее пара. Для меня в детстве потрясением было, когда я читал про ее смерть. Как она под поезд кинулась и в какой-то момент подумала: «Что же я делаю?» Это ощущение смерти, а я знаю, как это страшно: «Что же я делаю, что же я делаю?..», а потом взяла красный мешочек, отбросила. Отбросила смерть или жизнь? Мама дорогая! И все-таки легла, и свеча, которая озаряла, погасла… Конечно, все пляски, танцы как в «Карениной», так и в «Бульбе» все-таки идут к самому главному. В «Бульбе» Тарас говорит: «Да разве найдется сила, которая пересилит русскую силу? Эх…»
Театр — это прежде всего игра и детство. Все идет из детства. Ехал тут в метро и наблюдал за мальчишкой, ему лет пять, он ехал с мамой. На эскалаторе, на коричневых панелях, он играл в лошадку: поставит три пальчика, и они у него так скачут, скачут. Доходит до железяки, и раз — перепрыгивает. А пальчики маленькие, крошечные, и так он ехал до самого конца эскалатора. Еду за ними и думаю: «Что у человека в голове? Он верит, что пальчики — это лошадка, может, он в пропасть прыгнул и он — герой?» На следующем эскалаторе я сам так попробовал — бегу, бегу — прыг. Старый дурень. А думал, в какой спектакль это вставить?
Надо верить во все. И артист должен верить во все. «Как только в артисте умирает ребенок — вон из театра», — говорила мне Ахеджакова. Что бы мы ни делали: «Вишневый сад», «Гамлет», «Маскарад», все начинается с баловства. «Давайте побалуемся, а давайте так походим и так…» Так спектакль и вырастает. Потом я привезу с рынка кучу барахла, которое, как мне кажется, может быть в спектакле, а может и не быть, и скажу: «Давайте поиграем с костями из «Гамлета», с белыми панелями в «Маскараде». А панели взял у себя в квартире после ремонта.

Тысячу раз говорил артистам: «Мама ушла на работу. Открываем шкафы, сундуки, достаем мамины платья, которые нам большие. Мажем глаза и щеки и в маминых туфельках бегаем, прыгаем по дому, и падаем на пол, и ржем. Играем в одно, другое, третье. А в шесть часов придет мама, по жопе надает, но до шести-то можно играть». Так и в театре, в шесть часов придут критики и скажут, что спектакль — говно. Но ты-то можешь играть и баловаться. Короче, баловство и больше ничего.
— Когда у нас были дружеские страны, «Коляда-театр» много ездил на гастроли.
— Мы даже играли в театре «Одеон».
— Конечно, для Европы «Коляда-театр» — экзотика. Какая реакция тебя удивила? И какие открытия сделал за границей?
— Мы играли «Бабу Шанель» в 18 городах Франции. На спектакле перевод шел с титрами. В зале ржали, просто умирали от хохота. А я стоял за кулисами и думал: «Почему они смеются? Над нами, русскими? Над нашими проблемами, над нашими бабушками, которые поют в ансамбле «Твое тепло, мое тепло…»? Над чем?» А потом узнал, что таких ансамблей во Франции миллион. Что они такие же, бабки старые, и проблемы у них такие же. Куда им деваться? Идут в хоры — точно такие же хоры в Венгрии, в Польше, Болгарии, в Германии. Люди на старости лет не знают, куда себя приткнуть, а хочется общения, разговора. И находят такой ансамбль, и там бабушки выпивают, ругаются, ссорятся — кто из них звезда, кто не звезда. У них ощущение жизни возникает.
Помню, что когда играли в «Одеоне» «Гамлета», из газеты «Ле Монд» пришла седая злая критикесса, и все мне так: «Ну все, она вас раздолбает»… И вдруг выходит в газете статья, в которой написано: «Ягодин — это молодой Барышников». И пишет такие слова, что стыдно даже повторять.
Олег Ягодин — великий артист, и много у меня других великих. Когда я с ним познакомился в 96-м году, понял, что этот артист наделен от Господа Бога таким талантом, что он должен сыграть в жизни весь мировой репертуар. А моя задача сделать так, чтобы он это сыграл. Он играет Гамлета, Арбенина, Подколесина, Ричарда III, Хлестакова, но вокруг него есть другие блистательные артисты — Василина Маковцева, Антон Макушин, Тамара Зимина, Сергей Федоров. Из тех, кто помладше, Никита Рыбкин, Богдан Смоляницкий, Женя Чистяков, Женя Корнильев — кого бы не обидеть, всех хочу назвать. Стоял за кулисами на спектаклях и думал: «Что происходит на этих гастролях? Взлетаем в космос».
* * *
— Ты в театре делаешь все: полы моешь, вяжешь крючком, участвуешь в производстве декораций. Ты там живешь 24 часа?
— У меня театр находится на первом этаже многоквартирного дома. Это бывший кинотеатр «Искра», нам его переделали девять лет назад и сделали два зала: один — маленький, на 100 мест, «гранатовый» называется, и второй — «малахитовый», на 120 мест. Когда у меня не было театра, я был богатый, я был драматург знаменитый. У меня была пятикомнатная квартира, 11 кошек, домработница. Я жил… вообще было прекрасно. А потом появился театр…
— И теперь у тебя комната в коммуналке?
— Я продал пятикомнатную квартиру и купил три квартиры своим артистам, в которых они теперь живут. Вообще театру купил 15 квартир, из которых 9 подарил артистам. Антону Макушкину, который играл Бульбу, подарил, он 18 лет со мной, наверное, заработал на эту квартиру… Ну и другим артистам подарил. Марина, в гробу карманов нет! Я экономил гонорары, собирал, копил… Короче, продал квартиру, а себе купил маленькую двухкомнатную на пятом этаже этого же дома.
— И ты с утра в тапочках…
— Могу в тапочках спуститься, и я уже там. Могу начать спектакль: добрый вечер, друзья, приятного вам просмотра и — домой на полчаса, на часик… Я же старый, мне 65 лет, поэтому мне надо отдыхать.
— Я бедный, я старый — знакомая песня.
— Это называется кокетничать.
— Коля, тебе не скучно. Получается, что у тебя клетка-работа, работа-клетка.
— У меня еще есть институт. Я же доцент кафедры истории искусства, в этом году будет 30 лет, как я преподаю. Выпустил драматургов Багаева, Сигарева, Пулинович, Васьковскую, Баженову, Чергина, Богачеву, Батурину… Господи, всех не перечислишь. 5 февраля Рома Козырчиков защищается, очень талантливый парень, очень хорошие пьесы пишет. Еще есть режиссерский курс кроме драматургов. Так что у меня много еще всякой другой работы. Пока ноги носят… Конечно, я принимаю таблеточки, чтобы было весело…
— То есть?
— Я рассказал артистам, что принимаю таблетки, и сказал название. Один артист тут же: «Так это я коту даю, он сразу успокаивается». Вот и я принимаю точно такую же таблетку. Пока весело жить, пока интересно. Самое главное, пока не в маразме — вот чего боишься.
— А с завистью ты сталкиваешься? Впрочем, у тебя же бедный театр, бюджет скромный, чему завидовать?
— Завидуют, но это же их проблемы. А я никому не завидую. Я завидую молодым, что они молодые. Было бы мне 18, я бегал бы и прыгал. И еще завидую талантливым — мало их на белом свете. Вот прочитаешь у Чехова: «В разговоре она могла легко убить насекомое». Читаешь и думаешь, ну почему я не написал такое?

* * *
— Я хотела бы получить от тебя три рецепта. Рецепт первый: если я гол как сокол, но хочу построить свой театр. Что нужно для того, чтобы стать таким успешным, как ты? Чтобы приезжать на гастроли в Москву, и публика висела на люстрах? И чтобы все говорили: «Конечно, это театр Коляды и ничей другой».
— Товстоногов сказал: действие определяется глаголом. Какое внутреннее действие у меня было, когда в 2001 году я открыл свой театр? Я хотел всем доказать, в Екатеринбурге, не в Москве, что я чего-то стою, что-то могу. Доказать на пустом месте. И самому себе доказать. Кажется, доказал: Колька, ты — молодец, очень даже неплохо получилось. Но какие муки и мытарства прошел, да и прохожу. Еще для театра надо собрать команду, завести ребят, сказать: «Давай, давай! Но у нас нет денег». Мы начинали — зарплата у людей была 500 рублей, а нас было 15 человек.
— А сейчас какие зарплаты?
— Молодые получают минимум 35 тысяч. Уборщица получает 30 тысяч, но она работает не каждый день.
— Да ты сам моешь, зачем тебе уборщица?
— Да, мой же дом. Что же, если бумажка валяется, я ее не подниму, что ли? Я и всем об этом говорю: «Это ваш дом, ну, бумажка валяется, ковер загнулся, пыль — ну так вытрите. Мы здесь живем. Но это я уже начал воспитывать. Так вот, надо собрать команду, которая за идею, за еду готова работать. Но их надо заводить и держать, чтобы не было интриг, не было скандалов внутри. А чтобы у артистов не было скандалов, надо их загрузить работой. И дать столько работы, чтобы они «сдохли». Чтобы приходили домой, падали, спали, просыпались и бежали на репетицию. Мы играем в месяц на двух сценах 60–70 спектаклей: утром, вечером, в обед.
— Второй рецепт — как можно стать артистом «Коляда-театра»? По каким критериям ты отбираешь для себя артистов?
— Смотрю в глаза, смотрю на руки. Глаза и руки все говорят о человеке абсолютно. Говорю ему: «Завтра приходи на репетицию». Приходит день, два. Вижу, что ему интересно. «Интересно? — спрашиваю. — Тогда давай на сцену. Вот тебе роль: справишься — хорошо, не справишься — до свидания».
— И третий рецепт — борща, который ты варишь для зрителей на спектакле «Суп-театр»? Действительно сам варишь?
— Правда сам варю. В три часа ночи… А делается все очень просто, по принципу: евреи, не жалейте заварки. Знаешь такой анекдот? Евреи пришли к богу: «Что-то у нас чай не получается». Бог думал, думал, потом говорит: «Евреи, не жалейте заварки». Для борща не надо жалеть жирного мяса, надо делать очень хороший наваристый бульон. Когда мясо сварилось, достать его, а в бульон засыпать картошку, морковку, все что нужно… Это кипятится, а потом надо обязательно зажарить на сале лучок, чтобы он золотистым стал. Недолго жарить, и зажарку вылить в кастрюлю. И зелень сверху.
В Москве я попросил наших: «Девчонки, ну помогите мне, я один…» Девчонки почистили морковку, картошку. Кастрюля огромная, я же в буфете в Центре на Страстном варил все это. И надо было снять с плиты кастрюлю в 50 литров, на пол поставить, чтобы на эту же плитку поставить сковородку с салом и луком. Потом зажарку вылил в кастрюлю и стал поднимать, чтобы снова поставить на плиту. Думал, ежа рожу, чуть не сдох там. Помочь-то некому, пустой театр, три часа ночи. Но все очень хвалили борщ.