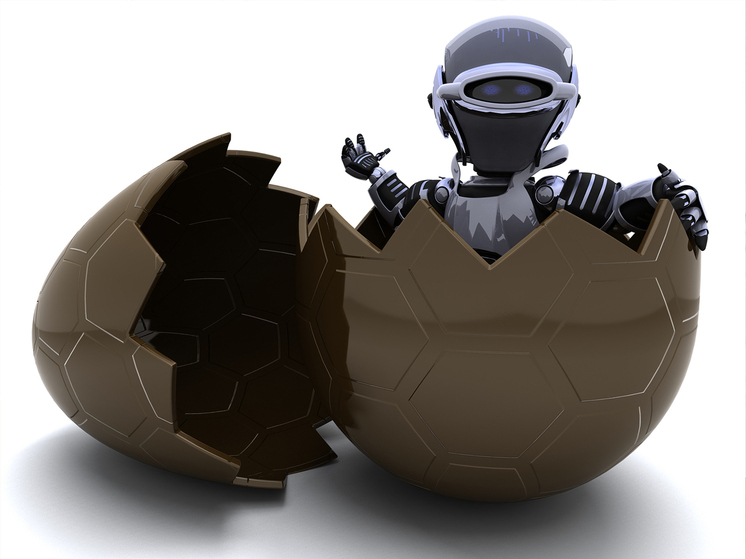«Все вокруг закрылись»
Артур Бахтин — приятный молодой человек интеллигентного вида. Встретив такого на улице, сложно представить, что он один из ведущих специалистов в своей области медицины, автор 25 научных работ. И в то же время перспективный художник. Президент Творческого союза художников России Константин Худяков принял Артура в ТСХР, только взглянув на его работу, когда Артур весной 2021 года защищал свой диплом магистра на кафедре «Художественная керамика». Мы встретились с Бахтиным случайно (забегая вперед, заметим, что многое в его жизни происходит словно само собой) в Строгановке.
Утром Артур руководит (внимание!) отделом патологической анатомии, а после обеда — преподает технологию керамики в одном из главных художественных вузов страны. Тут, в подвальной учебной мастерской Строгановки, хранится макет его арт-объекта, который произвел столь сильное впечатление на главу ТСХР, а недавно объект — керамическая ванна с длинными острыми иглами внутри — демонстрировался на выставке в Музее декоративного искусства и произвел сильное впечатление на публику.
— Не экспонат, а шоковая терапия. Как вы его сделали?
— Купил детскую ванну, снял с нее гипсовую форму, чуть изменил конфигурацию и сделал тело. Вот оно, — Артур достает со стеллажа учебной мастерской макет. — К сожалению, технически не было возможности сделать большую ванну.
— Ванна воспринимается как место, где можно расслабиться наедине с собой, а вы наполняете его шипами — агрессия проникает в личный мир каждого? Весьма актуальный образ для сегодняшнего дня.
— Да уж… Градус агрессии в мире максимально высокий на данный момент. Настолько, что уже ничего не понимаешь. Хочется изолироваться, закрыться от всех. А ведь я южный человек, это не в моей природе, и все-таки хочется. Когда я переехал в Москву, а это было восемь лет назад, первое время не мог привыкнуть к закрытости москвичей. В Астрахани ты заходишь в автобус, и люди начинают общаться между собой, обсуждать какие-то темы, даже если не знакомы. И это нормально. Как-то попытался в Москве с кем-то заговорить в транспорте, на меня так посмотрели, что я обомлел. Мне сложно было адаптироваться. А теперь все вокруг закрылись еще больше.
В Строгановке и среди врачей мы не обсуждаем политику. Первую неделю еще говорили, а потом — все. А ведь я родился в Луганске: отец — из Луганска, мать из Грозного, она поехала на практику и познакомилась там с отцом. Когда начались боевые действия в Грозном, моя бабушка по материнской линии переехала в Астрахань, и мама с папой за ней. До 16 лет каждое лето я ездил в Луганск — к родителям отца. Так вот, когда-то мы об этом разговорились с украинкой тетей Машей, которая работает в ларьке около моего дома, и с тех пор очень здорово общались. А тут пришел, спросил, как дела, и уже на этом вопросе споткнулся…
— Поддерживаете отношения с родственниками в Луганске?
— Бабушка умерла год назад, а дед — 5 месяцев как. Они не говорили о политике, может быть, по телефону боялись. Я так и не понял, что они думали.
Двигатель медицины
— Вы — художник и при этом патологоанатом. Воображение сразу рисует морг, запах формалина… Как вы попали в эту область? — продолжаем разговор за чаем. Кстати, все чашечки тут — авторские.
— Случайно. Прежде чем получить специализацию, нужно отучиться шесть лет. Я хотел быть неврологом, но в этот год дали места в аспирантуре на гистологию. Это такая наука о нормальном строении человека, а патанатомия, базируясь на гистологии, определяет патологию. Получилось так, что я пошел в аспирантуру на кафедру гистологии и через два года понял, что в неврологию уже не хочу, потому что полюбил морфологию — строение человека на клеточном уровне. Решил пойти в патанатомию, потому что это клиническая специальность.
— То есть каждый день вы, извините, вскрываете трупы?
— Нет. Самое большое заблуждение, что патологоанатом — это морг. На самом деле на 80% это работа с живыми людьми. Всю патанатомию можно разделить на два больших блока — это прижизненная анатомия и посмертная диагностика. Да, я работал в морге в Астрахани — там же проводил вскрытия. В Москве занимаюсь прижизненной диагностикой: изучаю все, что отрезается от живого человека — опухоли, желудки, аппендициты, родинки. После операции все это отправляется в патологическое отделение и исследуется. Допустим, удалили человеку родинку, отправили к нам, мы смотрим и понимаем, что это вовсе не родинка, а меланома, то есть злокачественная опухоль. В задачи патанатомии входит и установление причины смерти, она помогает понять, правильно ли лечили пациента, выявлять дефекты оказания медицинской помощи. Например, человек поступил с болью в груди, его лечили от инфаркта, а это оказалось прободная язва. Патанатомия помогает минимизировать подобные промахи в будущем.
— Какой самый сложный случай был в вашей практике?
— Прижизненные случаи все интересные. Это же фантастически объемно. Я занимаюсь опухолями головы и шеи уже 9 лет: заведую патологоанатомическим отделением в Национальном исследовательском центре оториноларингологии с 2014 года. И знаете: ни одна опухоль не похожа на другую. Это невероятно интересно. Патанатомия — двигатель всей медицины, симбиоз клиники и науки. Она с каждым годом углубляется, к ней присоединилась и генетика. Голова и шея — слюнные железы, щитовидная железа, мягкие ткани, кости — это самое тяжелое для онкоморфолога-патологоанатома.

За счет вредности профессии
— Как же патологоанатома занесло в Строгановку?
— Тоже случайно. Я окончил музыкальную и художественную школы в Астрахани. И сейчас время от времени возвращаюсь к инструменту — фортепиано. У меня для выбора было три пути — идти в искусство, медицину или на повара, как отец. В детстве у нас были кролики, отец разделывал их, и я имел возможность изучить строение живого организма. Керамикой я увлекся благодаря подруге, которая ходила на курсы как на арт-терапию. Как-то одну из ее работ я назвал страшной, а она решила мне «отомстить» и подарила на день рождения сертификат на те же курсы. Сказала: «Иди и попробуй сделать лучше». Это было в 2015 году. Так я попал к керамисту Анне Копыриной и задержался на два года. Она научила меня гончарить, и так керамика стала моим хобби.
Потом я попал в другую мастерскую, а однажды понял, что мне не хватает системы — как раз, когда шел с работы домой мимо Строгановки, а я живу недалеко. Погуглил, нашел там курсы и поступил. А поскольку в исследовательском институте за счет вредности (формалин, кислоты и прочее) у меня 6-часовой рабочий день, я в полтретьего уже свободен. Окончив курсы, решил поступить в магистратуру Строгановки: прошел на бюджет и окончил магистратуру, студийное направление, то есть когда делаешь чисто выставочные арт-объекты, а не какое-то там панно, посуду, плитку, как на функциональном направлении. Моя тема была посвящена агрессии и насилию. Я собрал материалы о других художниках разных направлений по этой теме, проанализировал приемы, а потом сделал свой объект — керамическую ванну с иглами внутри. Ну я уже рассказывал.
— Проверяли ванночку с иголочками на ком-то?
— Нет. Но я делал опрос: проявляете ли вы интерес к контенту с насилием? И выяснилось, что в итоге 95% — проявляют, и в основном это женщины.
— Есть психологические заболевания, которые толкают людей на страшные поступки, преступления. Интересно, такие отклонения проявляются в анатомии человека?
— Есть два научных института, которые занимаются этими вопросами. Они пытались сопоставить морфологию и психологию, найти субстрат — почему возникают шизофрения, депрессия или еще что-то. Рак, наверное, может быть следствием психосоматики, но я все-таки считаю, что он возникает из-за других факторов — экология, генетика и прочее. Я в этом смысле материалист.
— А как же история писателя Александра Солженицына, который болел раком, а потом каким-то чудом вылечился?
— Скорее всего, ему поставили неверный диагноз. Просто так рак не исчезает. И потом, тогда все-таки был другой уровень медицины, нежели сейчас.
— Почему рак — бич ХХ века, где он был раньше?
— Во-первых, вырос уровень медицины — и диагностика стала лучше. Второй фактор — ухудшилась экология. Плюс неправильное питание, стресс и так далее — условия жизни стали другие. Хотя психосоматика тут тоже присутствует — та же самая язва желудка может возникать на фоне стресса.
Акт самоочищения
— Сложно после медицины переключаться на искусство? Чувствуете нехватку основного художественного образования?
— Нет. Да простят меня художники, учиться в художественном проще, чем в медицинском. Если ты можешь за ночь выучить латынь — 200 слов на мертвом языке, то сможешь что угодно. Я сейчас увлекся глазурями и технологией керамики — сам создаю глазури и учу студентов делать состав глазури практически с нуля.
— Актуальный навык в связи с санкциями. Глазури ведь теперь в дефиците.
— Да. В сентябре, когда я начал этот курс и студенты говорили — зачем все это надо, мы же можем купить глазури. А сейчас в сложившихся обстоятельствах они говорят — давайте почаще заниматься. Все делается достаточно быстро. Главное, чтобы были основные компоненты, а они всегда под рукой. В этом плане мне очень пригодилось медицинское образование, тут очень много химии. Мне было легко разобраться с формулой Зегера: с помощью нее можно сопоставить между собой три группы оксидов, из которых состоит любая глазурь, керамические массы или материалы: флюсы, стеклообразователи, стабилизаторы; подсчитать молярную массу, подогнать алюминий к цинку, магнию и так далее. Компоненты есть везде, основные — это кварц, алюминий, флюкс. Идешь в ближайший карьер или смотришь под ноги на улице и собираешь камушки. Есть целое направление художников, которые работают только с природными материалами. Это больше популярно в Европе, нежели в России. Но скоро будет и у нас, видимо. Взял мешок, лопату, пошел нарубил полевого шпата, гранита, накопал песка, намолол в шаровой мельнице и получил свою уникальную глазурь.
— Шаровая мельница — звучит космически.
— Это такой барабан с фарфоровыми камушками, где компоненты для глазури перетираются и измельчаются. Такая есть в Строгановке, а теперь и у меня в мастерской на даче, по соседству с муфельной печью. Там я занимаюсь керамикой на выходных.
— Насколько заполнена ваша мастерская работами?
— Работ там немного, они в основном в квартире, распиханы по всем углам. Декоративные пласты, плоскостные вещи в основном. Самый большой предмет пока — ванна.
— Вы главный герой перформанса о почвенничестве, визуализирующего идеи немецкого философа Мартина Хайдеггера — крупнейшего мыслителя ХХ века, которого по сей день хулят за антисемитизм, поддержку фашизма и ректорство во Фрайбургском университете во время нацистского режима. Видео-арт с вами в образе интеллигента-профессора, копающего землю, был представлен на выставке Ольги и Олега Татаринцевых «Думаю: прочь». Проект рассказывает о романе и многолетней дружбе с его студенткой еврейского происхождения Ханной Арендт, которая чудом спаслась из немецкого концлагеря, а после в эмиграции в США стала большим философом, автором концепции свободы и термина «тоталитаризм». Какие ощущения от этого перформативного опыта?
— Это первый перформативный опыт для меня. Видео мы снимали во дворе Строгановки. Под проливным дождем поздней осенью. Долго подбирали, во что я буду одет. А потом как-то спонтанно пошли копать и снимали часа два с перерывами на погреться. Два часа копать под дождем я как врач не приучен. Я вообще не публичный человек. Выйти на сцену для меня сложно. Но на видео это не сказалось, вокруг были все свои. Страшно было на выставке, когда на открытии и на закрытии я участвовал во втором перформансе. Нужно было читать письма Мартина Хайдеггера к Ханне Арендт в микрофон. Четко говорить, держать спину прямо, а вокруг — поток людей, на который нельзя реагировать. А они подходят, тыкают в тебя, а тебе нельзя отвлекаться — это было сложно. Особенно первые полчаса, потом как-то погрузился.
— Что для вас лично значит история Арендт и Хайдеггера?
— Это история про двух людей, которые попали в тяжелое время. Про почвенничество, приспособленчество. Кто-то смог вырваться, при этом сохранив себя, свой стержень, кто-то попытался подстроиться под обстоятельства. В их письмах чувствуется эволюция. Мне кажется мы все чуть-чуть почвенники. Я, наверное, тоже — на какой-то процент.
— Вас изменил этот опыт? Все-таки керамика — это ручной труд, а тут перформанс…
— Да, проснулся интерес к акционизму, потому что я стал меньше заниматься керамикой. Раньше некоторые вещи бездумно лепил, пусть будет, а сейчас вынашиваю идею, стараюсь что-то пережить острое и перенести это в керамику. Каждая вещь должна быть осмыслена. Поэтому я жду, когда придет идея. Сейчас, конечно, хочется спуститься на политическую тему, но не оголтело, а опять же осмысленно. Я коплю энергию. Мне помогает музыка: последнее время слушаю Цоя и разную музыку 1980-х — очень резонирует, она стала настоящим.
— У многих художников есть свои ритуалы, чтобы войти в работу. У вас тоже?
— Я убираюсь. Не могу работать, если грязно. У меня мастерская полностью выложена белым кафелем. Если какое-то пятно, то я могу потратить три часа, чтобы довести обстановку до идеальной чистоты, даже если на работу останется потом полчаса.
— Как семья относится к сочетанию профессиональных интересов?
— Я пока холост.
— Думаете о пограничном проекте, который бы сочетал обе ваши специальности?
— Да, он пока зреет. Ванна с иголками — первый шаг к чему-то большему. Пока я впитываю: слушаю музыку, смотрю кино. Недавно пересмотрел все подряд фильмы Звягинцева. Моя коллега-врач говорит, что не может такое смотреть, ей нравятся комедии и мелодрамы, что-то легкое. Но мне кажется, что искусство как раз об этом: надо показывать не только что-то красивое, но и нечто ужасное. Когда переживаешь травматичные моменты, в тебе происходит катарсис, и ты что-то понимаешь для себя. Хочется делать произведения с отзвуком. Если все будет красивым, оно перестанет быть таковым, мы его потеряем. Красота воспринимается только на контрасте. Любое сложное, пугающее искусство — это как акт самоочищения, необходимый, чтобы отличать свет от тьмы.