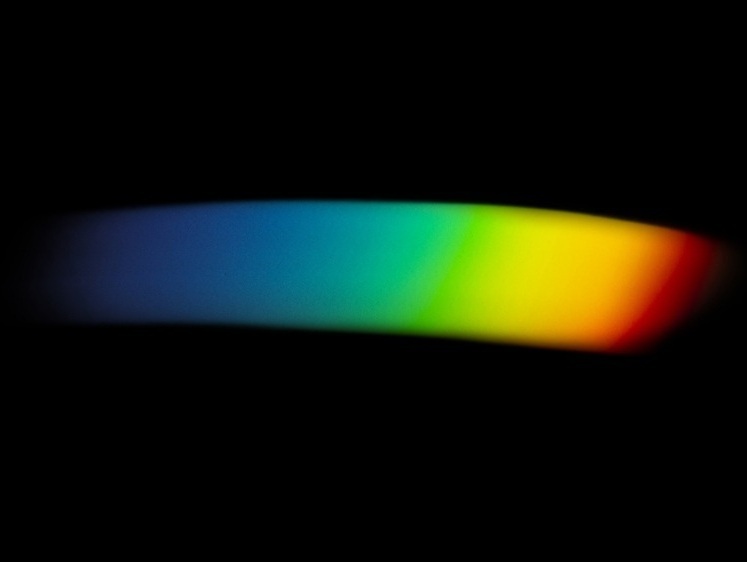Выбор материала для такого литературного гурмана, как худрук СТИ и чеховского МХТ, на первый взгляд может удивить. Михаил Булгаков с его «Театральным романом», «Мастером и Маргаритой» или Николай Эрдман с «Самоубийцей» — его материал понятен. А вот ерника и абсурдиста Хармса в режиссуре Сергея Васильевича, если честно, трудно представить. Трудно... было... пока в СТИ не сыграли «Старуху» — повесть, которую исследователи творчества писателя называют едва ли не лучшим его произведением. Повесть в конце XX — начале XXI века выдержала четыре экранизации — две российские, одну украинскую и даже одну американскую. Да, повесть лучшая, но и странная, не массовая, и, надо признать, далеко не все способны считывать ее философию, воплощенную то наивно-просто, изысканно, а то нарочито грубо. Но всегда парадоксально и не скучно.
В самом деле, написанная в 1939 году Хармсом вещица сюжетом своим очень даже пригодилась бы сегодня создателям какого-нибудь хоррора. Мужчина во дворе своего дома в Ленинграде встречает некую старуху с настенными часами в руках, но почему-то без стрелок. Вспомнив, что он забыл выключить электрическую печку, мужчина возвращается в свою коммуналку, где он строит планы кровожадного убийства детей, которых он терпеть не может за то, что те кричат на улице (убить, разумеется, в шутку). Потом решает написать непременно гениальный рассказ о чудотворце, но к нему непонятно зачем приходит та самая старуха с часами и ни с того ни с сего в его комнате помирает, а мужчина не знает, что делать с ее трупом. Ужас! Он в испуге начнет запихивать труп в чемодан, надеясь избавиться от вещдока, а чемодан с трупом у него украдут.
«Меня охватывает страшное чувство досады. Зачем она умерла в моей комнате? Я терпеть не могу покойников. А теперь возись с этой падалью, иди разговаривать с дворником, управдомом, объясняй им, почему эта старуха оказалась у меня. Я с ненавистью посмотрел на старуху. А может быть, она и не умерла? Я щупаю ее лоб. Лоб холодный. Рука тоже. Ну что мне делать?»
Эпиграфом к «Старухе» Женовача служат «Вываливающиеся старухи» — короткий анекдотический рассказик Хармса же размером в абзац. Тот, где одна за одной старушенции, лиц которых у Женовача и не рассмотреть по причине того, что они спиной к публике, подбегают к растворенной раме, но от чрезмерного любопытства вываливаются из окна и разбиваются. Факт летального исхода скрыт фанерной конструкцией — Хармса он вовсе не волнует: умерла так умерла. «И я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль».
На сцене его герой является в количестве сразу семи молодых и весьма симпатичных мужчин, держащихся тесной группкой, как будто они один человек. Мужчины в светлых брюках, рубашках и такого же приятного для глаза цвета жилетах, что обычно носят творческие работники, держатся дружно, на все реагируют одними словами, но разными голосами и с разными интонациями. И понятно, что в одном человеке живет ни одни, а целых семь человек — открытых и скрытных, нервических, самоуверенных, с комплексами и нахальных. Или совсем уж подсознательных, начитавшихся, допустим, сочинений модного доктора Фрейда...
— Не знаю, почему все думают, что я гений; а по-моему, я не гений. Вчера я говорю им: «Послушайте! Какой же я гений?» А они мне говорят: «Такой!» А я им говорю: «Ну какой же такой?» А они не говорят, какой, и только и говорят, что гений и гений. А по-моему, я все же не гений.
Впрочем, есть среди этих условных клонов восьмой — отщепенец, все больше отмалчивающийся, который не со всеми, но как бы наблюдает со стороны за происходящим. В том числе за самим собой, сидящим, прислонившимся затылком к стене. И в таком противостоянии множества с одной стороны и одиночества с другой заключается решение режиссера, представившего героя и автора в многофигурной партитуре. Где тут автор, где герой?
Кстати, слово «партитура» здесь абсолютно уместно: ритмизованную за счет семи-восьмиголосья прозу Даниила Хармса в какой-то момент начинаешь воспринимать не иначе как поэзию, которая вырастает на нелепице, гэгах, смешных трюках. И при этом — на одиночестве, предчувствии, неизбежности чего-то. Замечательная музыка Григория Гоберника, стилизованная под игру таперов в старых синематографах, сменяется строгим хоралом в финале.
К мужскому хору во второй части менее чем полуторачасового спектакля («Что такое цветы? У женщин между ног пахнет значительно лучше. То и то природа, а потому никто не смеет возмущаться моим словом») присоединится девичий хор, который разложит хармсовский текст тоже на восемь голосов. В нескольких мизансценах группы сойдутся в полном составе, и станет очевидно, как хороши, внешне и в профессиональном смысле, артисты у Женовача. Какая у него коллекция индивидуальностей, а не модных расхожих типажей. Есть в них какая-то природная чистота и искренность, азарт игры со сложным материалом и азарт игры как таковой.
Сценография Александра Боровского точно трансформер из фанерных панелей, с окнами, рамами, форточками, какими-то ящиками и потайными ящичками, постоянно меняется и в определенной степени создает иллюзию анимации, так подходящей характеру произведений Хармса.
Основное повествование у Сергея Женовача по ходу дополнится другими текстами абсурдиста, сложившись в повествование не просто об умершей Бог знает зачем старухе. В смешное от нелепицы, от убийственного абсурда советской жизни, которые считывал и так необычно переводил в строчки Хармс. В частности, режиссер использовал фрагмент из моего любимого стихотворения «Столкновение дуба с мертвецом»:
...Все это человек выслушал
и все же при своем остался.
Поплакал чуть. Слезинку высушил
и молотком вверху болтался.
В него кинули яму помойную,
а он сказал: «Все будет по-моему».
В него кинули усадьбу и имение,
а он сказал:
«Я остаюсь при своем мнении».
И смех, который сопутствовал действу, обрывается. Как в 1942 году оборвалась жизнь самого Даниила Хармса, арестованного, а потом помещенного в психиатрическую клинику. За что? За то, что, наверное, острее и больнее прочувствовал и прожил 30-е годы прошлого века с их жестким нечеловеческим замесом из людей и судеб. Хотел прожить отдельно, наблюдая и ерничая в стихах и прозе, — не вышло.