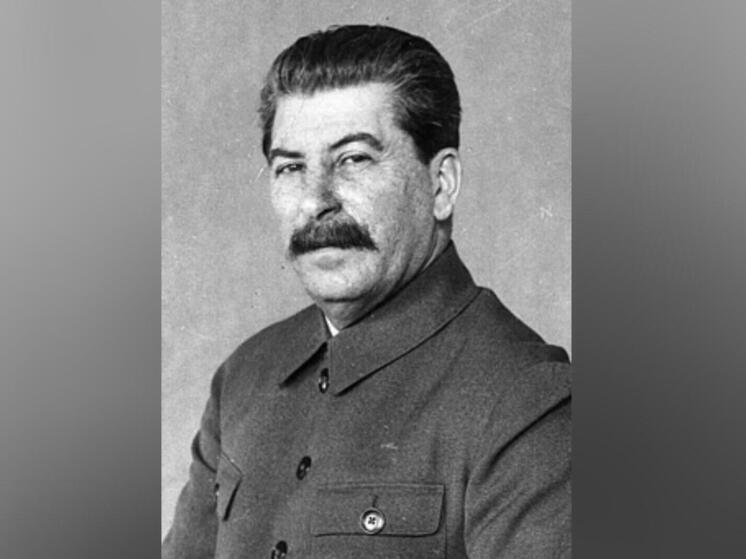Мой собеседник — талантливейший музыкант, выдающийся саксофонист. Кроме того, муж вокалистки ансамбля «Самоцветы» Елены Пресняковой. А еще — отец знаменитого Владимира Преснякова-младшего, дед подающего надежды музыканта Никиты Преснякова, а также свекор сначала певицы Кристины Орбакайте, а затем певицы Натальи Подольской. И, наконец, сват, пусть уже и бывший, Аллы Пугачевой. О ней — в том числе — и поговорим. Ведь у Аллы Борисовны в среду, 15 апреля, день рождения!
— Владимир Петрович, вы просто крестный отец от музыки — другого определения и не подберешь!
— Если говорить о семье, то я страшно рад, что она у меня такая. Старший внук — наш общий с Аллой Пугачевой — Никита получился очень хорошим и талантливым. И как человек он очень любящий. Называет меня «дедуленькой», открыто говорит, что любит меня и отца своего, совершенно этого не стесняясь.
Ну а младший внук, сводный брат Никиты Тема — ему скоро, 5 июня, пять лет будет — прелестный малыш! Уж такой смешной! Вообще классный! Он не совсем с нами живет, как когда-то Никита, мы сейчас все-таки в отдалении, но приезжаем, привозим подарочки. Я хочу на нем отыграться, чтобы он стал саксофонистом. Он мне обещает.
Просто тянется в моей жизни история, как я когда-то Вове, а ему тоже лет пять было, на саксофоне быстро показал, как играть. И он как-то загорелся, начал крякать, мяукать на нем… А потом поиграл и сказал: «Не буду на нем учиться. У него сварливый звук». Потом Никита, когда ему тоже было лет пять, начал пробовать. И тоже быстро какие-то там мотивчики выучил, группы Mungo Jerry, например. И снова: «Нет, не буду я на нем! Не хочу!» И тогда-то у меня возникли подозрения: может они почувствовали, что лучше папы и дедушки не будут играть на саксофоне?! И поэтому выбрали для себя более легкий путь — играют на других инструментах: на клавишных, барабанах, гитарах…
— Ну, так кто-то ведь должен вам наследовать как саксофонисту…
— Так вот я и думаю, что, может быть, Бог любит троицу? Теме нравится, когда я играю для него, — что-нибудь простенькое, какие-то мотивчики. А так он в основном больше помнит папины песни, иной раз напевает их, я начинаю подыгрывать, а он тут же — танцевать! Но я все-таки третью попытку сделаю: дождусь пятилетия Темы, летом, даст бог, и подарю ему саксофон. Я уже приготовил — его, личный. Красивый такой, желтый, как будто позолоченный. Может, он начнет на саксофоне играть? Я бы очень хотел, чтобы династия сохранилась, и потом со сцены объявляли: «Фамилия саксофониста — Пресняков!»
— Тема у вас внук приходящий, а Никиту вы долго растили сами?
— Да, Никита долго жил у нас, до школы. Он любил панк-музыку, а я его все к джазу приучал… Он до сих пор Майлза Дэвиса, а это мой любимый музыкант, очень уважает. Но тем не менее — пошел в рок. Он на английском все сочиняет, и тексты, и музыку пишет в американской манере. И хоть человек мягкий и скромный — поди переубеди его. Ему говоришь, что в нашей стране такая музыка не зайдет, а он — нет! Но меня порадовал модный фильм «Триггер»: там звучат его музыкальные треки.
— Он у вас самостоятельный молодой человек, мамой-папой не прикрывается.
— О, это да! Если вам придется с ним интервью делать — вы его только о бабушке, дедушке, маме, папе не спрашивайте! Вот прямо ни одного вопроса: он совсем не хочет говорить на эту тему.
У него основная идея-фикс — пройти весь путь самому и добиться успеха. Он и когда в США учился, жил там в общаге, никогда не просил помощи. Вообще ничего! Не дай бог ему что-то там послать… Но мы, правда, тайком посылали на телефон деньги, чтобы хоть иногда позвонить можно было. А так он шел, в баре посуду мыл — заработает там каких-то долларишек и купит себе поесть. Иногда умудрялся сэкономить и даже приобрел подержанные клавишные инструменты, чтобы на них заниматься… Мы так за него волновались в действительности! Один! В чужой стране! Но чувствовали, что он цельный, и верили, что все будет нормально. Зато теперь он прекрасно язык знает, и музыкант хороший. Как пишут в книгах, сам себя сделал — self-made по-английски.
— Не готов еще сделать вас прадедушкой?
— Да я бы вот очень хотел, но там его жена заканчивает институт, и есть такое мнение: пусть доучится сначала! Сейчас молодежь такая трезвая — мы не думали, когда начинали жить вместе, где, на что существовать… Мы с моей Леной, нам по 20 лет было, я постарше на полгода, только поженились — и Вова сразу появился. И жили, можно сказать, очень небогато. Думали: «А что? Мы молодые! Как-то встанем на ноги». На гастроли когда уезжали, Вову, конечно, с Лениной мамой оставляли. Поэтому у него одна из первых песен, которые родилась, и он ее позже записал, называлась «Бабушка моя» — очень нежная композиция.
«Когда, то непокорна, то нежна, на шум его прикосновений грубых/Как будто б нехотя откликнулась она,/Так он любил, так он страдал…» — в моей голове продолжают звучать стихи Владимира Петровича...
— У сына вашего Володи с Кристиной сохранились хорошие отношения?
— Да, у них хорошие, дружеские отношения. Я просто про это знаю, и Кристина очень хорошо про него всегда говорит. А когда у Володи был юбилей, она его публично поздравила и сказала: «Спасибо за сына!» Хотя так обычно мужчина говорит своей женщине. Но все же некоторое участие отец-то принимает в зарождении ребенка. (Смеется.) Нет, там все очень хорошо, даже Алла когда-то сказала, что они как брат с сестрой.
— Как зарождался их роман?
— Как все случилось? Снимался «Огонек», Вова пел там мою песню про Чарли Чаплина, Алла делала какой-то свой номер, по-моему, Паулса, точно не помню. А Кристина просто присутствовала. Вова подошел и говорит: «Алла Борисовна, можно мы с Кристиной на дискотеку сходим?» Алла говорит: «Давай, но только чтобы в 11 часов вечера она была дома!» Он все это выполнил, другой раз больше доверия получил, потом еще больше… Наконец, он уезжал на гастроли, в Харьков, по-моему, а Кристина пошла его провожать. А он ее в последний момент раз в объятия — и затащил в вагон. Поезд тронулся. И они поехали туда вместе. Алла об этом узнала — и помчалась за ними на машине! Ну, приехала… Вова подошел к машине, она открыла окно, посмотрела на него пристально, он тоже молча стоял и смотрел на нее… Она закрыла окно и уехала.
— Какая молодец! А вы как узнали?
— Потом Алла как-то звонит мне: «Володь, слушай, я с гастролей вернулась, смотрю, голубки спят в одной кроватке… Как быть-то? Что делать?» Я говорю: «Ну что делать? Дело-то молодое…» И она вдруг с таким облегчением: «Ну, если ты так думаешь, то и я тоже так же». Видно, она думала от меня услышать: «Да что это такое?!» Хотя, с другой стороны, она людей-то чувствует, должна была понимать, что чья бы корова мычала, а моя бы молчала… Какие там строгости? Делать из себя бобра такого, значит, кабинетного? Не-е-ет… А потом и Никита родился. Он хороший, очень теплый.
— У вас все дни рождения в семье в кучу, как вам так удалось?
— Да! Вова родился чуть позже меня: я — 26 марта, а он — 29-го. Жена моя переживала, даже плакала: хотела день в день. Нам весной дней рождений хватает: Алла, потом в мае — Кристина, Никита и нынешняя Вовина жена Наташа Подольская. Все даты рядышком. А в конце апреля — еще и Филипп Киркоров. Я к дням рождения серьезно подхожу — например, узнал, что Бетховен умер 26 марта (конечно, не в год моего рождения, но в тот же день), и я про себя решил, что он мне передал свои способности. И мне поэтому некуда дальше деваться, надо сочинять! (Смеется.)
— С Аллой Пугачевой у вас сохранились приятельские отношения?
— Да, она даже как-то работала моим оператором, снимала нас с Сашей Кальяновым. Это было у нее дома — ну еще там, на Истре. Мы с Кальяновым, а он мой такой старый дружок, узнали, что у нее на третьем этаже есть бильярд, и решили поиграть. Ну и она, конечно, присоединилась. Мы играли, пели, а она нас снимала на камеру. А у Аллы, кстати, есть что-то такое от экстрасенса, потому что она вдруг сказала в один из моментов: «А вот смотри, сейчас я забью шар: один полетит в левую лузу, а другой — в правую». Но я как бильярдист, в прошлом даже зарабатывающий себе этим на жизнь, очень засомневался. В молодости я был такой игрок на деньги, в бильярдных это было развито. В другие игры не играл, в картежные там или домино, — только в бильярд. Поэтому я знал, что это труднейшая задача, когда стоят два шара, и ты бьешь по ним, и один вправо в боковую лузу должен уйти, а другой — влево в лузу упасть. Там один бы забить! А тут она сказала: «Сейчас я забью оба!» Что за уверенность, даже самоуверенность такая?! И вот она ударила — и вдруг оба шара в лузах…
Мы с Кальяновым друг на друга так посмотрели — выразительно: как? Как ей это удалось?! А Алла, как ни в чем не бывало, опять за камеру и снимать дальше. Нет, есть в ней мистика, что-то такое, что дает ей многие вещи предчувствовать.
«…А в зале, заполненном щемящею тоской,/Шептали, и смеялись, и жевали,/А кто-то плакал, заслонясь рукой…» — мне все-таки ну очень понравились стихи моего собеседника.
— Когда вы полюбили саксофон?
— Я подпольно увлекся саксофоном. Увидел фильм «Серенада солнечной долины» — и тайно стал пытаться учиться на нем играть.
— Тайно?
— Конечно, тайно. Это же был запрещенный инструмент. В детстве меня отдали в городе Свердловске, ныне Екатеринбурге, в военную школу — это была школа музыкальных воспитанников Советской Армии. Лет десять мне было. А надо сказать, у меня родословная такая музыкальная: прадедушка, дедушка, мать, старший брат — все музыканты. Прадедушка — это только то, что удалось мне узнать, может, там и раньше кто был. А его фотографию я видел, дореволюционную, кстати, — с длинными волосами и со скрипкой. Наверное, это мода была тогда такая: все скрипачи подражали Паганини. Тот был длинный, волосатый…
Ну вот, отдали меня в школу, и родителям так хорошо было, поскольку там я жил, там меня одевали, кормили, военная дисциплина была. А я тогда был недоволен, зато теперь очень рад, что все так получилось. Иначе заниматься я не занимался бы, а там — пойди-попробуй! Сразу накажут: в увольнение не отпустят, мыть помещение, сортиры придется… И я там на кларнете стал заниматься, но вот увидел фильм — и сошел с ума от саксофона. А однажды пришел к нашему мастеру дяде Паше, который у нас ремонтировал инструменты, чинить кларнет — и увидел саксофон. Тот был немецкий, трофейный, на нем даже свастика не была до конца стерта, и был он поломанным. И вот я договорился с дядей Пашей — а из его мастерской ничего не было слышно, — чтобы на нем заниматься. И сам начал овладевать инструментом, мне никто ничего не подсказывал. Как оказалось, некоторые звуки я брал по-своему, что потом мне пригодилось, потому что это были так называемые замены. И я научился выбирать, такой аппликатурой взять или другой, потому что нота — она уже от этого по-разному звучит. Такой прием замены, как я потом узнал, есть у американцев, они так делают. Потом, я не знал, что там высокие ноты можно брать, и сам их «отрыл». Позже мне показали более удобную и правильную аппликатуру, но все равно тот навык пригодился.
И вот я у дяди Паши там и занимался, и научился играть. Но время уже наступило либеральное, хрущевское, и учителя, которые прознали про мое увлечение, говорили: «Ты основную программу на кларнете делай, и мы не будем тебя ругать за саксофон». Ну и хорошо, я и делал — отлично играл на кларнете, педагогов радовал. Даже репертуар более серьезный, чем положено мне было в этой военной школе, знал. Я занимался и джазом, и классической музыкой. И сочинять тоже там начал.
— У вас очень много замечательных песен!
— Спасибо! Кстати, я своими песнями не торгую.
— Почему? Все же продают, и еще как задорого!
— Леонтьев, Пугачева, Боярский поют мои песни — это же счастье! Какая может быть торговля? То есть то, что приходит из Российского авторского общества, когда платят за официально прозвучавшую мелодию в концерте или на радио, это другое дело. А сами песни не продаю.
— Это совсем не по шоу-бизовски!
— Я не типичный представитель шоу-бизнеса, это правда. Дело в том, что во время моего детства и юности люди столько сделали мне добра! Кто-то научил меня играть, кто-то отдал свой инструмент… — и мне сейчас надо как-то возвращать. И я на студиях, на записи играю бесплатно, неважно, известному или неизвестному кому-то, кто только начинает. Я не кичусь этим — просто считаю, что мне надо какие-то долги отдавать. Потом, наша семья прошла через всякие трудности, и даже запрет на профессию был одно время…
— Запрет на профессию-то вы чем заслужили?
— Я руководил ансамблем, который был бывший «Норок». Не я его, правда, создавал. Потом, когда по приказу Фурцевой ансамбль запретили, он стал называться по одной из песен — «О чем поют гитары». Хорошо все шло, а потом в газете «Правда» появилась статья некой Валентины Терской, и в ней все обвинения, которые можно было собрать, собрали. И длинные волосы, и ужасные костюмы, и безобразное поведение на сцене, плюс к тому — наглость: не будучи членом Союза композиторов, некий Пресняков сочиняет свою музыку и включает в программу… Вот Валера Леонтьев про такое тоже может многое рассказать. И ансамбль был запрещен. Я оказался в трудном положении, потому что и сам, и жена остались без работы: никуда не берут! Я имею диплом музыкального училища, имею право руководить какой-то там самодеятельностью, но и туда тоже не берут!
И это продолжалось, пока Юрий Федорович Маликов, честь ему и хвала, не испугался взять меня в «Самоцветы». У него тоже была форс-мажорная ситуация, поскольку все музыканты ансамбля в тот момент ушли и организовали группу «Пламя», и ему надо было делать «Самоцветы» с нуля. Вот он и взял меня, мы стали делать новую программу, очень быстро собрали ее — и все стало хорошо. Я там отработал двенадцать лет, а жена работает до сих пор.
Большую роль тогда сыграла Олимпиада-80: с ней наступила своеобразная оттепель, по радио зазвучали песни Антонова, появился «Аракс», Валера Леонтьев запел, а то так же мыкался — где-то, какая-то Горьковская филармония… А тут и Паулс с удовольствием начал ему писать, и композиторы, которые не были в Союзе, получили какие-то права. Да, Олимпиада принесла оттепель, а потом запреты уже стали неуместны: популярность не запретить…
— Сегодня вы можете сказать, что джаз в нашей стране востребован публикой?
— Мне кажется, у джазовой музыки всегда было очень много поклонников. В Москве, конечно, не так много, как в Нью-Йорке, далеко не так, но джазовых клубов много. Я часто выступаю с очень хорошими музыкантами, у нас несколько программ, и Таня Ларина, моя ученица, саксофонистка, тоже прекрасно играет. И всегда бывает полный зал людей.
— Саксофон — не женский инструмент, или я ошибаюсь?
— Так раньше считалось, но сейчас появилось много женщин, прекрасно играющих. И даже дети, девочки. Вот показывали Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» — так там такая Соня Тюрина, девчоночка лет восьми, она такие штуки на саксофоне выделывает! Моду на это привнесла голландка-саксофонистка Кэнди Далфер, и сразу много подражательниц появилось: «Да, мы можем на саксофоне!» И девчонки играют — правда, не импровизируют, но очень хорошо, классно, технично исполняют классическую музыку. Сейчас много пишут для саксофона такой академической музыки. А я обычно сам себе все пишу, свою музыку, и еще играю традиционные джазовые вещи, но обработки делаю сам.
— Коронавирус сегодня вам все перечеркнул, все концерты…
— Сейчас вообще нам, всем артистам, не очень хорошо. Я выступал в джаз-клубах, жена — в «Самоцветах»: они такие востребованные! Столько всегда работы было! А сейчас вот нет. А у сына прямо в его день рождения, 29 марта, в «Крокусе» должен был быть сольный концерт. Он готовился чуть ли не год, всяких сюрпризов напридумывал, друзей-артистов пригласил. И я с ним должен был поиграть… И все отменилось. Он впал в легкую депрессию, засел дома, не выходит. Но там же мальчишка! Они с ним играют все время, из каких-то мультфильмов каких-то комических героев изображают, все саблями машут космическими друг перед другом…
Но я не боюсь коронавируса. Я знаешь чего боюсь? Вон сколько телепрограмм, и в каждой изучают чужую ДНК — больше ничего не изобрели. И думаешь: только уйдешь в мир иной, как тут сразу вой и начнется. Вот как бы заготовить какую заповедь, чтобы всего этого избежать… Детей этих внебрачных. Чтобы не пошли пляски половецкие возле не совсем остывшего тела. Но раз такое запретить невозможно, то придется просто жить как можно дольше.