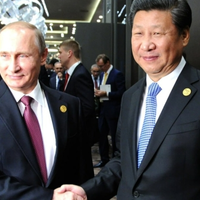Только над головами нашими не закат, как в любимой нами обоими книге, а глубокая ночь. И идет сплошной стеной снег, рассыпаясь удивительно крупными, как будто рукотворными снежинками. А ледяной ветер дует так, что через две минуты зуб уже не попадает на зуб. Оказывается, на высоких московских крышах дуют ветра какой-то нечеловеческой силы. Я — в длинной шубе, но, вмиг промерзнув, дрожу крупно, как цуцик, а мой визави — нараспашку, без верхней одежды и после недавней тяжелой простуды. И — поет. А я слушаю и думаю: «Господи! Это же немыслимо просто! У него же вся грудь голая! Он же заболеет уже сегодня ночью! Это все я виновата! И зачем я только хотела с ним на эту крышу?! Уж скорее бы допел!». И это был единственный раз, когда я мечтала, чтобы Валерий Леонтьев поскорее закончил бы свой номер. И вот наконец звучит заветное: «Спасибо! Снято! Все свободны!».
— Валерий Яковлевич, вы — первый, кто поет на морозе после болезни, да еще нараспашку, это какое-то творческое безумие, — сообщаю я ему банальную очевидность, а он кутается в кем-то заботливо подкинутый плед и не отвечает. Наверное, потому что скулы свело от холода.
Но он правда — первый. Он — первый всегда и во всем. Первый, кто сломал советские шаблоны серости и скуки на сцене, и первый, кто привнес на эстрадные подмостки шоу голливудского масштаба. То есть оказался родоначальником российского шоу-бизнеса в высшем, творческом смысле этого слова. А еще возглавил мощно развернувшуюся в стране сексуальную революцию. И став однажды секс-символом, остался им навсегда. Вот и в нынешнем году интернет-пространство вдруг взорвала его песня «Кончайте, девочки», которая была записана, на минуточку, в 1995 году. Она бы и тогда порвала в клочья Всемирную паутину. Интернета просто еще не было — не изобрели. «Если бы секс был человеком, он выглядел бы именно так», — оценили Леонтьева представители нынешнего поколения.
— Валерий Яковлевич, какой смысл вы вкладывали в строчки «кончайте, девочки, кончайте, ох, кончайте» в 1995 году? И как эту песню вообще пропустили тогда на ТВ?
— Я вкладывал как раз то, что надо было девочкам, — смеется он, — а что касается худсоветов... За последние полвека в словосочетании «мальчик в клубе склеил модель» действительно поменялся смысл всех четырех слов, наверное, поэтому и пропустили тогда.
— Но вы-то всегда были «плохим мальчиком»?
— Я? — удивляет он. — Нет. Никогда не стремился быть «плохим», просто страстно хотел петь и еще — чтобы зрителям это ужасно нравилось.
— А им нравилось? Людям, выросшим в стране, где не было секса?
— Не всем, да. Поэтому меня многие так же категорически отвергают, как другие — любят.
— Вас это не угнетает?
— Неприятие? Нет. Это ведь также искренне, только со знаком минус.
— Вам не было страшно, у людей в головах еще марксизм-ленинизм, а вы: «Меня кладут они на жареный песок и в рот хотят...»
— Там дальше про сок.
— Я понимаю. Как вы решились?
— Да мы просто прикалывались, — говорит он, — весело было.
— Сегодня слабо такое спеть?
— Сегодня такого стало много, уже неинтересно.
— Что тогда нужно спеть сегодня, чтобы это стало «ах!»?
— «Ах!» — это в первую очередь отклонение от нормы, всегда в основе любого слома стереотипов должно лежать такое отклонение. Для шоу-бизнеса это очевидно.
— Когда-то вы первым вышли на сцену в юбке...
— Ну, это был килт — мужская, кожаная, длинная, очень красивая юбка. И шили мне ее специально для номера на песню «Гюльчатай».
— У вас в костюмах два настроения: или это смокинг, или то, что потом еще годами обсасывает пресса.
— Я бы сказал: это или сценический наряд, или то, что требуется согласно дресс-коду, я никогда не ошибаюсь в выборе костюма.

— Изобретенную вами сетку, за которую по вам не прошелся только ленивый, весьма успешно с... скрала несколько лет назад Рианна, показалась так на премии CFDA — и ее никто за это не ругал. Вам не обидно?
— Нет.
— Мы не привыкли, что западные звезды что-то могут заимствовать из имиджа наших артистов, но вот вам удалось первому и, похоже, единственному сломать и этот стереотип.
— Ну, бывает, что и они что-то подсматривают. Я вообще к этому спокойно отношусь.
— Вы — первый, кто во время исполнения взмывал над сценой, первый, кто совершал прыжки и делал стойки на руках. Кто привнес в свои шоу потрясающие спецэффекты: стену настоящего дождя, рушащиеся мосты, дым, трассы, стальные конструкции. И невероятную игру света. Вы внедрили в мозги советского человека самый настоящий Голливуд.
— А в чем вопрос?
— Как вы думаете, сегодня шоу по-прежнему интересны публике или уже поднадоели и нынешним молодым артистам пора искать что-то другое?
— Шоу — это такой жанр, что все должно светиться, вертеться, удивлять и поражать, и это никому никогда не надоест, если в центре находится яркий артист, который всем этим владеет, крутит и зажигает.
— Когда есть яркий артист, то конечно, но нет ли здесь опасности, что с развитием технологий публике станет легче впаривать посредством шоу неярких артистов как образец абсолютного таланта?
— Публика — дура? Нет! Вот кого точно невозможно обмануть, так это публику.
— Тогда чем можно объяснить падение уровня эстрадных исполнителей? Уже давно нет молодых звезд вашего уровня в России или уровня Мадонны, Шер на Западе, почему все так упрощается, становится банальным: тексты, музыка, вокальные способности?
— Возможно, стали другие интересы у зрителей. Просто мир меняется в целом. Появляются другие ценности.
— Теперь всем правит хайп?
— И это тоже. Раньше надо было шокировать, увлекать, заинтересовать собой, а теперь можно и просто хайпануть — сорвать куш, оказаться в нужном месте в нужный час. Но на это тоже нужен свой талант.
— Говорят, вы не любите исполнять свои «золотые хиты», например «Дельтаплан», это правда?
— Нет. Но, как я это называю, «золотой нафталин» не мешает чем-то разбавлять, иначе будет слишком много блеска и мало сюрпризов.
— Ваш портрет до сих пор висит на всемирно известной студии А&M Records в Голливуде, которую в 1917 году основал Чарли Чаплин, где вы — первый из россиян — писали альбом, вы гордитесь этим фактом?
— Мне это приятно.
— Вас тяжело удивить новой песней, соблазнить что-то исполнить?
— Я слушаю и выбираю для исполнения песни уже 50 лет, меня действительно сложно удивить.
— Сколько текстов вы помните наизусть?
— За пределами возможностей человеческой памяти.
— Вы, наверное, ненавидите поэзию.
— Чтобы стихи меня «пробили», они должны быть по-настоящему гениальными.
— Мне очень нравятся ваши песни на стихи русских классиков. Вы обязательно должны в концерте петь «Свечу».
— Я подумаю об этом.
— Завтра?
— Когда-нибудь...
— К текстам песен у вас не такие суровые требования, как к стихам?
— Тексты тоже должны быть высокого уровня. И музыка. И аранжировка. И исполнение. Абсолютно все!
— А вот у меня есть уверенность, что вы из любого сора можете сделать конфету...
— «Когда вы знали, из какого сора...» Не знаю — не уверен.
— Как вы решаетесь взять песню в свой репертуар?
— Должно что-то дрогнуть в душе.
— Однажды вы читали мне наизусть сонеты Шекспира... А можно еще раз?
— Уже год, как я бросил пить... (Смеется.)
— Жаль...
— «Что делать, Фауст...»
— Вы верите, что поцелованы Богом?
— Мне бы хотелось, чтобы так думали зрители и, главное, чтобы у них для этого были все основания.
— Вы уже полвека на сцене и ваша слава пока, слава Богу, остается на пике. Это — не основание?
— Спасибо Господу, что дает мне силы! Спасибо людям за их любовь и отдачу!
— Вам какая публика больше нравится: та, наивная и восторженная, из вашей молодости, или сегодняшняя — порядком пресытившаяся, но все равно вами восхищающаяся?
— Мне нравится моя публика: тонкая, неравнодушная, дышащая со мной в унисон: такая была и, слава Богу, есть, и, надеюсь, еще будет.

— А мне ваша сегодняшняя публика не нравится: слишком молодая, раскованная, юные женщины относятся к вам фривольно — обнимают, целуют. Я вот, например, ревную! И думаю, что не я одна. Это проблема, когда артист на сцене полвека и у него долгая смена зрительских поколений?
— Некоторая проблема в этом есть, но скорее не для артиста — я-то любую свою публику люблю, — а внутри аудитории. Но как-то приходится всех примирять, потому что у меня действительно сегодня просто гигантский разброс возрастного ценза: от малолетних детей до милейших бабушек. И да, много совсем молодых девушек, которые иногда решительно игнорируют мой собственный возраст. Но ты не переживай, и у них тоже вырастут дети.
— У вас 19 марта день рождения, вы мне скажете, как долго у ваших зрителей еще будет возможность кричать вам из зала в этот день: «Поздравляем!»?
— Не скажу.
— У моей коллеги двухлетняя дочка — ваша поклонница, у нее будет шанс вынести вам на сцену цветы в свои шестнадцать?
— Это как Бог даст.
— Вы религиозны, посещаете храм?
— Нет. Но если бы был религиозен, изучал бы первоисточник.
— Вы знаете, что за вас молятся ваши поклонники, заказывают службы «за здравие»?
— Да.
— Вы не против?
— Нет.
— Верите, что зачтется?
— Надеюсь.
— Чего вы боитесь?
— Ничего, я многое пережил, испытал, превозмог, переборол.
— Потери, разочарования?
— И это тоже.
— Не боитесь болезней? Коронавируса например.
— Нет. (Смеется.)
— Забвения?
— Не очень.
— Течения времени?
— Я бы не сказал, что с годами мы становимся счастливее.

— Научите меня плохому! Композитор Лора Квинт говорила, что ее вы научили.
— Вот врать я не умею, — вздыхает он, — так что этому вряд ли научу.
Врать он, правда, не умеет. Если заболел, так и говорит об этом, если вдруг чувствует себя без сил — тоже не скрывает. А потом я читаю в Интернете всякие домыслы о его якобы уходе со сцены по состоянию здоровья. И расстраиваюсь — неправда же! А он — не читает, ну, соответственно, и не расстраивается. «И ты, — говорит, — не читай. Лучше Эрнеста Хемингуэя. Я вот так его люблю! «Старик и море»... — и выражение его глаз становится мечтательным. А мне не нравится, что он так уж любит Хэма, — тот фигура, конечно, сильная, и история его жизни потрясающе интересная, но уж больно грустный финал.
— Как вы думаете, почему он решился на такое?
— Наверное, просто очень устал, — пожимает плечами Леонтьев.
— А вы устаете?
— Да, но я люблю жизнь и достаточно быстро восстанавливаюсь.
— Как птица Феникс? Из пепла?
— Случалось, что и из пепла.
— Зимой вы делали операцию в области спины, но все равно работаете: концерты, записи.
— Не пугай людей! Операция — в прошлом. Иногда случается небольшая скованность в движениях, но не более того. Ситуация в пределах нормы, и все обязательно будет хорошо.
— Вы сегодня не побоялись бы сделать stage diving («ныряние» со сцены, когда артист прыгает в зал. — Авт.), как делали в молодости?
— Я ни на секунду не сомневаюсь, что и сегодня мне никто не даст упасть.
— Вы верите в предсказания?
— Отчасти!
— Какое было самое приятное в вашей жизни?
— Я очень долго буду молодым.