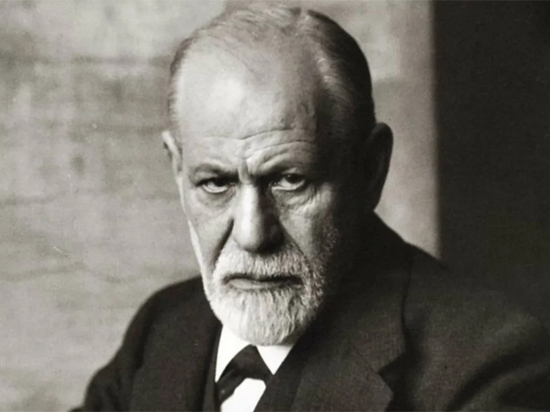ФРЕЙЛИНСКИЙ КОРИДОР
В Петербурге, на вокзале, куда Виссарион Петрович прибыл из Царского села (а в Царское – из Златополя), его встречал залихватски ерничавший Распутин. Григорий Ефимович повел регента к изящному, похожему на готовящуюся к прыжку пантеру автомобилю «Бугатти», никелированно сиявшему изогнутостями-коготками. Шофер в кожаном шлеме, крагах и суконном френче горохового цвета угодливо распахнул дверцы.
Скоморошествуя, старец пытался растормошить регента:
– Если начистоту, Висса, ты специально прикинулся проспавшим! Чтоб не идти к еврею-всезнайке. Я ведал: ты проспишь. Но важно другое: царь передал Шимону икону. Это возымеет наисерьезнейшие последствия.
Хмурый Виссарион Петрович не поддержал балагурств. Сообщил вкратце о развязном вознице, явившемся ниоткуда, о хороводе призраков на овсяном поле (и при этом цепко всматривался в провидца, тот и бровью не вел), обрисовал недовольство свиты, которой объявили (на полпути в Ливадию): царь едет не к морю, а в Киев. Григорий Ефимович слушал невнимательно, повторял: «Знаю», «Знаю», «Мне известно». Щегольнул сведениями, коими, не будучи непосредственным свидетелем ночной прогулки, вряд ли мог располагать:
– От дома Шимона до железнодорожной станции скакать в бричке не меньше суток… А ты управился за полчаса. Потому что я подослал телегу. Нет предела моим попечениям о тебе и государе. Пока Горовиц играл на скрипке, вы проделали путь длиною в несколько лет. Но саблю не следовало отдавать вознице!
А когда речь зашла о подаренном регенту хронометре с двуглавым коронованным орлом на тыльной стороне серебряного корпуса, распорядился:
– Пошлешь часы сыну Петру в Берн. Нет, лучше в Париж!
Виссарион Былеев опешил:
– Какой Берн? Какой Париж?
Распутин остался невозмутим:
– Спустит денежки в казино. Свяжется с нехорошей компанией. От худшей участи: убийств и воровства его уберегу. Но он еще и в красотку-итальянку влюбится!
Виссариона Петровича прошибла испарина. Захолонуло сердце. Распутин (неужто впрямь не замечая полнейшей оглоушенности застигнутого врасплох, онесчастневшего отца, собравшегося немедленно броситься на спасение чада?) опять пустился осмеивать поездку:
– Жаль, ты не шандарахнул краба-кайзера по кумполу. Предотвртил бы мировую войну. От каких мелочей зависят судьбы мира! Зато воочию убедился, каково государю: даже на родственников не может положиться – будто Брут, ждет удара в спину. Братья и сестры готовы растерзать, потому что завидуют, вдовая мамочка в грош не ставит. Был бы царь тверд, распихал бы врагов в сетчатые бильярдные лузы: бильярд – те же шахматы, только не на узорчатом дворцовом паркете, не на овсяном поле, а на тончайшей выработки сукне. Увы, Николай Александрович – прирожденный второй, второстепенный, второразрядный – и номинально, по исчислению – после Николая Первого, и фактически: после своей жены, после матери, он – ломкий мелок, чтоб вощить кий, а не орудие рук Господних. Не такой, как я! Как Победоносцев! Как Наполеон! Как Жанна д,Арк и Нострадамус!
Виссарион Былеев, хоть и притерпевшийся к безудержным гиперболам старца, каждый раз заново смущался самовосхвалениям Григория Ефимовича: Всевышний наделяет порученцев полномочиями – без литавр, разборчиво, осмотрительно, шум-трезвон в ходу у нескромных хвастунов.
Развалясь на переднем сиденьи, Распутин руководил поездкой, а попутно лудил (его собственное выражение) Вселенскую Смазь:
– Наивно думать, что круговерть осуществится сама. Царь не хотел ехать к Шимону. Я настоял. Перетасовал времена. Прикарманить годок-другой – не возбраняется, это все равно что изъять из обращения истершуюся банкноту. Эпохе Возрождения Бог отвел куцесть, а я вколотил клинья-распорки: великого Данте, Брейгелей, грандиозного Да Винчи – они раздвинули плодотворный период! Квартету небосклонцев: мне, Нострадамусу, Льву Толстому и испанскому архитектору Гауди – вменено возвести храм Святого Семейства в Барселоне. За нами охотятся противники богоугодности. Гауди толкнули под трамвай. Нострадамус почил по вине излеченных им от чумы дурней, они требовали суда над ним – искуснейшим лекарем. Здоровье Льва Толстого подорвано женой-скандалисткой и глупым сыном, возомнившим, что он талантливее отца. Лев Толстой, вслед за Гауди и Нострадамусом, готов отказаться от личного бессмертия. Но не годится гению уподобляться поденщикам, для коих смерть – конец тщеславного пути. Для нас, конфидентов Бога, смерть – ворота в бесконечность.
До сближения с Распутиным Виссарион Петрович пребывал в убеждении: земная и послегробовая жизни перетекают одна в другую и не подвержены вмешательству частных возжелателей (при глубочайшем уважении к возможностям Григория Ефимовича) – изъятиям и заимообразным уступкам сроком в год или месяц, то есть бытием в целом и бытием каждого отдельного человека управляет Вседержитель. Распутин доказывал: телесность и беспредельность подчинены чудодеям, Божественной Властью им дано перекидывать-передвигать куски времен из столетия в столетие – будто костяшки на счетах, переупрямливать ход событий – перечеркивать случившееся, исцелять обреченных, заново выстраивать каркас будущности. Вестовые Небес способны замедлить, предотвратить, отсрочить любое свершившееся или намеченное к свершению Божественное волеизъявление – стоит лишь прошаманить заклинание, почесать за ухом, сплюнуть и растереть…
Сидя вполоборота к регенту, Распутин беспокойно оглядывался, губы резиново растягивались и смыкались.
– Переиначивать русла происшествий приветствуется. Если вторую половину 1910 года совместить с первой четвертью 1912-го... Произойдет приемлемая утряска – начинка дней Льва Николаевича не утечет в Лету!
Виссарион Петрович, запоминая сей простенький времяуправительный рецепт, не поспевал за следующими упреждениями не от мира сего (и, сдавалось, не по собственной воле, а по высшему соизволению и приказу витийствующего) посланца:
– Матрешка – не кукла. Не забавная копия вечно беременной бабы, она – боченок, в нем царь Салтан со своей матушкой. Она – Спиноза, а в нем – Сократ. А в нем – Демокрит. И Декарт. И Сенека. И Кант. И Монтень. И Гоголь, а в нем – Пушкин. Говоришь с очевидным человеком, а он – матрешечно неведом. – И впроброс шоферу: – Куда прешь! Лошадь на перекрестке! Глаза у тебя, что ли, на затылке! – И опять регенту: – В Пушкино-Гоголе – «Капитанская дочка» и «Сорочинская ярмарка»! Человек – кофр, в этом кофре множество отделений-саквояжей. Гитлер, в нем – Геринг. Хотя Геринг толст, а Гитлер – тощ…
Виссарион Петрович отмалчивался, стыдясь позорной своей неосведомленности: он понятия не имел об упомянутых толстяке и худышке.
Старец уже не балаганил, цеплял всерьез:
– Молитв должно хватить на каждую особь: не ублажишь, не заручишься расположением – источит, как короед сосну. Отчего переизбыток умалишенных? От того, что неприкаянные души впрыгивают в пустопоржцев и заставляют мнить себя Кутузовым, Суворовым, Наполеоном. Вообразишься Цезарем или Клеопатрой и окажешься в смирительной рубашке! Исповедуйся Всевышнему, и Господь охолонит: нетути вакансий – для замещения великих… Я, по соизволению свыше, перенаправляю наполеоновские и барклайдетоллевские таланты – в середнячков.
Регент мимолетно задумался над сообщенным. И уловил лишь окончание тирады:
– Время видится тебе текучей рекой? Сравнение ошибочно, потому что на поверхности и напрашивается, а напрашивается только дешевое: дескать в воду падают – черви, мухи, стрекозы, шевелящие крылышками Нероны, Гомеры, Тамерланы… Река волочет их – в смерть. Но мнят себя пловцами! Утопленники, не управители водоворотов… Тонут и булькают не в окиянах стихии, а в подоженном пунше и перебродившем крюшоне. Что и происходит с государем. Я таким хлебовом брезгую. Ибо чую неутолимость сатанинской жажды… Разнообразные ягодки в такой бурде, в компоте, куда вбухано много дряни. – Распутин отбросил квелую прядь со лба, чтоб не мешала видеть: льется, окатывает – «пунш», «крюшон», «жизненная жженка» – не желавшего поддаваться охмельнению регента. – Невелика честь: лакать из общего корыта бренности, держись нерасторжимого единства мертвых. Они рядом: Спиноза, Кант, Декарт! Серафимушка Саровский и Франциск Ассизский, Фихте, Шеллинг, Гегель... Кстати, полная фамилия Фихте – Фихтенгольц… Учись зреть подлинных бессмертцев. Воздух соткан из них. Не толкни, не задень ненароком! – И опять водителю: – Тпру! Налево, а не направо! Голова садовая! Куда прешь! Сам ты лошадь! Сейчас бы въехал в ограду! – И опять регенту: – Яблоко, упав, чернеет ушибленным боком. Прозрачной душе – каково с синяками? – И, отвесив подзатыльник шоферу: – Я те дам, расталкивать их капотом! Как с трибун Колизея, они кричат: смерть, смерть, смерть – обидевшим: мне, тебе, Николаю Александровичу, его жене, детишкам! Царство Небесное начинается здесь, а не в поднебесьи. Если бессмертных оглаживаешь, они сыплют изюмы славословий, льют мирро откровений чистейшей прозрачности. Допустим, желаешь с кем-то свидеться, а его нет в живых. Или жив курилка, но встреча не удается. Тогда душа ищет обходные пути. Что, по-твоему, есть молитва, если не почтовый голубок? Она – поводырь!
Регент слушал с суеверным ужасом и, напрягая глаза, пытался узреть изюмину или хоть воскурившийся дымок – в автомобиле, за окном, средь пешеходов и конок, меж деревьями парка – но тщетно: даже шевеления воздуха не пронаблюдал. Зато заметил: держа дистанцию, будто веревочкой привязанный, следует за «Бугатти» тупорыло-массивный «Руссо-балт», битком набитый охраной.
– Дураки, дятлы, – обозвал неотстающих сопроводителей Распутин. – Якобы безопасность мою стерегут, а приставлены меня порешить. Водитель мой – шпик! – И ущипнул шофера за щетинистый загривок: – Сколько платят за шпионство? – Не получив ответ, рассмеялся. – Ухайдокивают государственные денежки на слежку за мной! Неуязвимым!
Проезжали Адмиралтейство. Виссарион Петрович, глядя на золоченый игольчатый шпиль, не могший пригвоздть к линии горизонта наползавшую черную тучу, слушал бередящее:
– Мертвым ведом каждый наш шаг, они и оповестили, из-за чего болеет Алеша-цесаревич. Николай Александрович палит на охоте и во время прогулок в парке почем зря… Но Господь создал слонов, муравьедов, моржей, пятнистых жирафов, полосатых зебр, рогатых лосей, лисят, кабанят, оленят и олених, кошек и собак – себе и нам на загляденье. Эту прелесть не выточить рукотворно на человечьем токарном станке. – Старец распалялся, щеки его порозовели: – Чтоб не убивали красоту, предусмотрены рожь, пшеница, финики и – хлебные деревья: рви с веток батоны и сдобные булочки и уминай за обе щеки! Апельсины и мандарины поделены на дольки, чтоб удобней кушать. С превеликим трудом отмолил я Алешу…
Распутин воздел руку и ткнул в подушечно мягкий потолок автомобиля (будто к грозовому небу прикоснулся):
– Глянь, из кого состою я… – И волнисто удесятерился, превратился в покачивающуюся хризантему с волосистыми листьями и лепестками (шофер боязливо отодвигался от распушившегося цветка), стал веером-опахалом, затем – веером игральных карт, поместившихся в чьей-то невидимой огромной руке: не молодцеватые валеты и тетеревино-бровастые короли и прожженные дамы пестрели на лакированных прямоугольничках, а окровавленные острой бубновостью палашей Пушкин и Лермонтов, пиковая и червонно-червиво-сердечная императрицы Елизавета Петровна и Екатерина Великая, отравившийся Радищев с пузырьком яда в петлице.
– Погоди, Григорий Ефимович! Твои пируэты уж очень затейливы, – осмелился прервать феерическое действо регент. – Если время поддается дрессировке, значит, можно спасти не только Льва Толстого, а и Долгорукова, Дедюлина, Фредерикса, Столыпина?
Карточная колода с неудовольствием замногоголосила, регент не знал, какой из дискантов, басов, теноров и контральто главенствует:
– Не туда тебя тащит всепрощение, Виссарион! Бессмертия удостаивается не каждый. Есть жизни обязательные, необходимые: Пушкин, Толстой, Менделеев… А есть – бросовые: Столыпин и Дедюлин. Шушере Бог не потворствует, она сама ставит монументы в свою честь… Ярчайший пример дутых шампанских пузырей – корсиканец Наполеон: напрашивался в русскую армию, чтоб служить под стягом Пересвета и Осляби, Александра Невского и Дмитрия Донского, а потом на них ополчился, вот и лопнул. Наше командование соглашалось взять капрала Наполеона в русские войска с понижением в звании. Что справедливо: равных Наполеону бросовых рядовых необученных в России в каждой захудалой деревне больше, чем на плодородных Елисейских полях. Дурню в треуголке прислушаться бы к гласу Божьему, а он – оскорбившись – явил наполеоновские замашки: «Завоюю. Поставлю на колени!». В русских казармах зарвавшихся вылечивают быстро – наши санитары не чета французским сиделкам, а неотапливаемый, где зуб на зуб от мороза не попадает, Трубецкой бастион не чета празднику взятия Бастилии. Чернь благоволит взошедшим над ней бесноватым, идет за ними, но если Господь не подкрепит их безумие Своим участием, они провалятся: Бонапартов (и не только в психлечебницах) сотни, любой готов во главе толп завоевывать хоть Европу, хоть Африку.
Тезис в принципе не противоречил миропониманию регента, и Виссарион Петрович его развил:
– Кем Господь наречет, тем и слывешь. Предстаем в обличьях, потребных Его нуждам. Он на каждую роль намечает излишек кандидатов!
Но хоть трижды, хоть семью семь раз прикажи себе стать вровень с Распутиным, – не получится! Широко разметывая клубящиеся (как драконьи зубы) пригоршни адских семян, чреватых невообразимыми всходами, Григорий Ефимович столбил целину, к которой не отваживались подступиться богобоязненные пахари, вколачивал в неурожайно-равнинные мозги регента флагштоки не подлежащих обжалованию штандартов:
– Темницы и сумасшедшие дома, ничего не поделать, переходят по наследству от одной власти к другой. Арестантов скоро станет больше, чем бесколодочников. Возгордившийся не может быть мерилом и вместилищем времен, ибо печется о себе, а не о секундочках, кои разнятся неотличимо – не сопоставишь судороги еретика на костре и усладу жарких ночных утех, отбывание воинского долга в грязном окопе и посиживание-протирание штанов в непыльном казенном присутствии, даже если столоначальник тебя журит, а командир-офицер расхваливает за выскабливание шомполом жерла винтовки. Мчим по городу, это – ништяк в графе «доход», но наполнили поездку полезным общением, и котировка возросла: ты – на пороге прозренчества.
– Я достигну твоего уровня посвященности? – выхватив из потока абракадабры поддающуюся разумению крупицу, не хотел ее упускать Виссарион Петрович.
Распутин уклонился от прямого подтверждения, лишь опосредованно намекнул:
– Всклик англичан: «Май Год!» шире нашего: «О, Господи!» и не только удостоверивает: родившиеся в мае маются, а дела, начатые в пятницу, пятятся, но дает наводку: «Бог» – это «Год». При-годные, то есть – при-Господние дни, а в году их – 365!, используй с толком, пока не начался А-пока-липсис – суть пророчеств «А-пока-липсиса»: беды, пороки, эпидемии будут накапливаться, вода в реках и колодцах загрязнится, почва иссохнет... Но само обозначение «А-пока-липсис» внутрисловесно показывает, что понятие это – растяжимое.
Удручив Виссариона Петровича неоспоримостью нашествия зла и вернув себе привычную наружность – контуры портретов на внутренней стороне карт схлопнулись-совпали, лепестки собрались в колоду – старец из-под приспущенного века искоса изучал регента.
– Кем я только ни был! Окунал Христа в купель Иордана и звался Иоанном Претечей. Мне оттяпали башку, а я возьми да напиши евангелие об Иисусе и о втором пришествии. И меня прозвали Иоанном Богословом. Говорю поэтически, ибо я еще и певец крестьянства Николай Алексеевич Некрасов, он вселяется в меня – на полчасика, на неделю, на год и вопрошает: «Кому на Руси жить хорошо?». Я сочинил под его воздействием поэму «Рыцарь на час», а он отозвался обо мне в превосходной степени: «Простой мужик по своей и Божьей воле стал прославлен и велик…». Попрекают Некрасова, Достоевского, Пушкина картежничеством и женолюбием, но пристрастия – якорно удерживают преставившихся на приколе среди живых и грешных, с ангелами не больно-то перекинешься в «дурачка». Пастыри духа взаимозаменяемы. Опыляют друг друга, как пчелы. В этом секрет бессмертия. – И опять воздетый к потолку кабины кулак. И опять праща, пущенная под прикрытием словесных шутих и серпантинов, серебристой дождливой мишуры метафор и озорных парадоксов-конфетти, вдребезги разбивающая глянцевое панно мира: – Я охоч до слабого пола в угоду Николаю Алексеевичу Некрасову и Достоевскому. Был Иваном Тургеневым и завел шашни с сестрой Льва Толстого. Стал Герценым и увел жену у Огарева. – Распутин медлил, возможно, решая: стоит ли усиливать потрясение, с очевидностью явленное троекратно перекрестившимся Виссарионом Петровичем. – А еще я – потомок декабриста Якушкина, он был сослан в Сибирь, жил в доме моих предков, тут и случилась проруха с моей бабушкой, женой моего дедушки Насона… Сейчас в моде поэт Надсон, он мой почти что брат, фамилия его произведена от имени моего деда.
Виссарион Петрович не мог прийти в себя. Ну и излияния! Разве можно о таком – походя? Да еще со скабрезными ужимками! Но Распутин чужд цирлих-манирлихства:
– Российская имперская двуглавость – не пустая придумка: меня, когда я был Иоанном Предтечей, спасло наличие двух голов…
Виссарион Петрович впился взглядом в распахнутый ворот кумачевой шелковой рубахи нового Крестителя, но следов отсечения не узрел. Распутин мирволил:
– Не старец я, а старьевщик. Храню ребро Адама, его частичка стала позвоночником Евы, щепу креста с Голгофы, на котором распяли разбойника, попавшего в рай. А еще – перышко петуха, что прокричал, когда апостол Петр отрекся от Учителя… Но этот осколок – особенный, он срикошетил до Зимнего дворца из тунгусской тайги.
Из кармана широких, как запорожские шаровары, брюк извлек сафьяновый футляр, из футляра – похожий на игральный кубик кусочек металла. Расстегнул стоявший в ногах кожаный, со множеством замочков саквояж (с такими навещают пациентов доктора) и вытащил гибрид медной подзорной трубы и привинченной к ней логарифмической линейки: меж неподвижных полозьев свободно скользила центральная полоска, охваченная кожаным пояском-экранчиком, на нем вспыхивали и гасли сменяющие друг друга картинки – мирные крестоносцы стоят лагерем на льду Чудского озера, колышется обреченное Новгородское вече, на Троицком мосту Петербурга конногвардейцы и кавалергарды дают залп по хоругвям, которые несут восставшие рабочие: свистели, рассекая воздух, нагайки, мелькало в толпе лицо сына Петруши…
У Виссариона Петровича заскребло в груди.
– Мне в Москву надо!
Григорий Ефимович не удостоил регента ответом, постелил на коленях истершийся по сгибам, испещренный пометками и выведенными черной тушью цифрами чертеж, метнул осколок, который, кувырнувшись над Таганрогом, покатился вдоль Уральского хребта и замер, запрудив Обь: верхнюю грань крапили четыре выбоинки.
– Веди линию: Тобольск – Петербург – Москва! – распорядился старец. – Каков, по-твоему, четвертый географический ориентир?
Виссарион Петрович не знал. Под патронажем старца ему удавалось (иногда и ненадолго) превозмочь собственное тугодумство: суставчики предпосылок и следствий компановались в сочленение, вытапливавшее из рыхлого жмыха мироздания подобие смазочного масла. Сейчас не выжималось ни капли.
Распутин комкал бороду, демонстрируя (не от существительного ли «демон» произошел глагол?) крайнее нетерпение.
– Таганрог, Тобольск, Екатеринбург! Тебе ясно: почему?
Виссариону Петровичу ясно не было.
– В Тобольске родился ученый-химик Дмитрий Менделеев. Слышал о таком? Еще бы не слышать! Он – создатель водки! В Тобольск привел путь покинувшего трон царя Александра Первого, простудившегося в Таганроге и прикинувшегося умершим. Там ему, объявившему себя странником Федором Кузьмичем, всыпали двадцать ударов кнутом за бродяжничество. Царь-отступник проложил тропку последышам своей династии, вот-вот нашего с тобой сердешного друга Николая Александровича вышлют в Тобольск. А Менделеева, напротив, заботливая мамаша увезла из Тобольска в Петербург. Улавливаешь обратный ход? Я и Менделеев из Сибири – в столицу, царь из Петербурга – в Сибирь? Нужен симметричный четвертый странник плюс к моей, менделеевской и Николая Александровича доминантам. Кто это будет?
Виссарион Петрович, в поисках отгадки и избегая встречаться с Распутиным взглядом, припал к простиравшейся на экранчике размытой подслеповатости – синониму его собственного скудомыслия, не позволявшего превозмочь непредрасположенность прозревать. Впустую старался возвысить регента до попечительств о будущем – неустанный вершитель-созидатель настоящего!
Старец вдалбливал:
– Ты! Ты – четвертый. Четвертованный! – жилы на бородавчатом лбу вздулись, посинели. Распутин теребил подбородочную волосню, а казалось: поймал за бороду не себя, а Бога. – Отправишься в Тобольск, и сына призовешь из Рима в северную кнутобоязненную глушь!
Виссариона Петровича обдало (как на златопольском, после прочтения телеграммы, перроне) предощущением неминучих бед. Он уже не пытался разъять слипшуюся залежалым мармеладом мозаику наказаний плетьми царя Александра Первого и розгами – гимназиста Менделеева. Распутин шерудил ошейничком по линейке: бежали по мраморным лестницам, загаженным коридорам и залам Зимнего перепоясанные пулеметными лентами матросы, валялись вповалку трупы в шинелях. Проповеднически старец навевал:
– Смерть гробастает тех, кому кажется: без Бога можно обойтись. Дорожка началась не вчера и закончится не завтра, а именуется почти по-русски: «Виа Делороза» или «Виа де ла Росса». Я бывал в Иерусалиме и убедился: розария на той узенькой улочке нет и быть не может. Путь Иисуса мы выбрали – во время купания в Днепре и Почайне. С тех пор смехотворно постимся в дни Христовых мук и бесстыдно отъедаемся в ночь Его Воскресения, вспоминаем о Распятом и Его страданиях в последнюю очередь, меж хлопотами о собственной неге! Дружи с евреями! Они откроют, какое искупление понесем. Ни постная скорбь, ни куличное обжорство не зачтутся самоотречением: кровь избывают кровью!
Пролистнутыми страницами мелькали на мерцавшем ременном (и временном) квадратике, бликовали на метеоритном кубике-осколке вспышки-мгновения златопольской фата-морганы: погода – лишь теперь настигло регента – на протяжении недолгого путешествия беспрестанно менялась, едва успевала отморосить осень, как раскалялась и шпарила сковородочная духота, налетали ледяные порывы ветра со снегом и цвели васильки… Над платформой, когда Николай Александрович потребовал отбить телеграмму Распутину – с просьбой предотвратить гибель Столыпина, кружились ржавые октябрьские листья. Мосолов протянул уже полученный, снятый с телетайпа приговор: «Нужна равная замена убитому. Ты, государь». Приняв узкую бумажную полоску из рук самодержца, Виссарион Петрович не сразу вчитался в пляшущие перед глазами буквы (подпись «Григорий» удостоверяла неотвратимость безысходности). Мосолов допытывался: «Куда направимся? В Крым? Отдыхать? Или в Киев? На похороны?». А Виссариону Петровичу не удавалось смахнуть с бровей то ли белый морозный иней, то ли желтую куриную слепоту. Он и теперь не вполне понимал: поезд, приржавевший к рельсам на разгромленной станции – морок или реальность?
Представ перед собой еще более ранним, Виссарион Петрович увидел себя на Зубовском бульваре: он упрашивал дровокола Агафона добыть из вороньего гнезда состриженные с височков Пети волосики, Агафон, ссылаясь на усталость, отказывался лезть на дерево (он привез на подводе березовые поленья и сгружал их во дворе), в его размахивающих жестах читалось: неровен час грохнусь с высоченного тополя, проще этот тополь срубить… Племянник Никитушка, обхватив серебристый ствол руками и ногами, вскарабкивался выше и выше. Виссарион Былеев, испугавшись за ребенка, приказывзал ему спуститься. Над Никитушкой каркали, защищая гнездо, взрослые вороны, птенцы (взъерошенные, недавно оперившиеся) выпорхнули и неуклюже спланировали: один – на крышу сарая, другой – на забор. Надежда Ивановна взяла их под опеку – чтоб не съели кошки и не побили камнями окрестные мальчишки. Никитушка, балансируя на верхотуре, дотянулся до гнезда, снял его с ветвей и пустился в обратный путь. К стволу приставили лестницу, последние шаги смельчак совершил уже по ее перекладинам. Виссарион Былеев подхватил Никиту, Надежда Ивановна приготовила сладкий чай. Вместе выпутали волосики из сплетенных прутьев…
Никите подарили коробку конфет «Эйнем». Воронят выпустили через чердачное окно на карниз и выкармливали хлебом. Головные боли Петруши пошли на убыль. Григорий Ефимович велел Пете хранить добытые из гнезда волосики в медальоне, медальон держать при себе. Талисман валялся то на письменном столе, то на подоконнике, то на чугунной этажерке. Нехотя сын подчинялся Виссариону Петровичу и вешал ладанку на грудь.
«С Петром ли сейчас оберег? – думал Виссарион Петрович. И уже не дивился возникшему на экране силуэту Эйфелевой башни: ведь Распутин обмолвился о Париже. И о Берне… – Неужели нелегкая занесет сына в такую даль? Если амулет с Петрушей, он – под защитой».
Распутин спрятал тунгусский осколок-кубик в сафьяновый ларец, защелкнул саквояж с логарифмической «астролябией» (так регент окрестил сложносочиненный расхлябанный подзорный прибор), свернул чертеж и не допускавшим возражения тоном объявил:
– Навестим Константина Петровича Победоносцева.
– На кладбище? Не поеду! – воспротивился Виссарион Петрович.
Глаза старца, когда он повернулся к Виссариону Петровичу и свел зрачки у переносицы, полнились разноцветьем: правый – хлороформно зеленел, левый – искрился карей золотистостью, при этом они глобусно вращались. Поверх кровеносных сосудов (или Виссариону Петровичу мерещилось?) на белках проступили очертания континетов.
Машина резко повернула.
Особняк, к которому подрулили, не казался необитаемым, хотя с козырька над крыльцом свисал снежный палантин (просившийся быть счищенным), а на карнизах намерзла наледь. До зимы было далеко, а короны водосточных труб окольцовывала бахрома сосулек. От дверей тянулась цепочка приминавших пушистый покров следов. Наваждения, ставшие привычными (да что там – необходимыми!), продолжались.
Плешивый полупрозрачный камердинер в потертой ливрее, согнутый возрастом, как гвоздь неудачным ударом молотка, сопроводил их в комнаты. Из обеденной залы, где перед погребением лежал на овальном столе в украшенном искусственными цветами гробу обряженный в парадный мундир Константин Петрович, тянуло затхлостью.
Ждали аудиенции в креслах, обтянутых белыми холщовыми чехлами. Старец затаенно улыбался. Виссарион Петрович хохлился: в промозглом болотном городе ему всюду чудилась малярийность, а, в преддверии встречи с мертвецом, становилось вовсе непосебейно. Коптили свечи. По стенам блуждали недобрые тени.
– Почему поступаешь мне поперек, не делаешь, как я велю, Висса? – корил регента Распутин. – Предопределенное не изменить, но от предназначенного можно уклониться. Упрекают Моисея Леонского, второе его имя Моше де Леон, он взял второе имя, чтоб отвести от себя насмешки: де составленная им из обнаруженных на горе Мерон Кумранских рукописей книга «Зоар» – подделка, поскольку автор включенных в нее трактатов Шимон бар Йохаая не мог общаться с теми, кого перечисляет в качестве собеседников, одни умерли, другие еще не родились… Но толковище можно вести и с мертвыми, и с неродившимися, ты сейчас убедишься! Ведь веришь: Серафим Саровский в детстве оскользнулся под куполом церкви и сорвался вниз, но не расшибся! Веришь: Сергию Радонежскому являлась Владычица наша Богородица! От Успенского собора, где служишь, протяни нить к успению Божьей Матери. Когда архангел Гавриил возвестил, что близок Ее последний час, Мария изъявила желание попрощаться с друзьями Сына. И апостолы уже на следующий день собрались в Иерусалиме, а находились в разных концах мира! Невозможного нет! На погребении отсутствовал лишь Фома, но он недаром прозван Неверующим и Неверящим!
Регента (неожиданно для него самого) подмыло:
– Константина Петровича держишь среди живых. Льва Толстого хочешь обессмертить. Почему Петра Аркадьевича Столыпина отказываешься спасти? И Дедюлина – отвратить от самоубийства? – приплел он неудачливого своего шахматного (обреченного пуле – не преферансной, а всамделишной) партнера.
Распутин присвистнул:
– Опять ты за свое! И опять – поперек мне! Дедюлин и Столыпин – песчинки, от перемещения таких, как они, – хоть в другое государство, хоть в потустороннюю клоаку, не изменится ничего. Петр Аркадьевич и Дедюлин не знают, зачем живут, и никогда не опомятуются. Коль запечный сверчок пробился на видный отовсюду важный пост, должен не допускать худого. А они торгуют злом, приторговывают бесчестьем! Жнут поборы, гноят державу! Один, в бытность градоначальником Петербурга, воровал, второй понастроил виселиц. Он разве Бог, чтоб вершить приговоры? Я видел так близко, как ты сидишь: дача Столыпина взорвана, слуг поубивало, дочка ранена, а он несет ее, окровавленную, и лязгает: «Реформ не остановить!». Заводная кукла, а не любящий отец! Не мозги – коленчатые валы. Иван Грозный отрубал крестьянам руки – забавы ради, при Столыпине отсыхают руки у трудящих земледельцев, начиняет деревню враждебными почве механизмами.
– Спасать надо всех. И Столыпина! И Дедюлина! – упрямился Виссарион Петрович. – Жена Столыпина, его дочь не повинны в черствости мужа и отца. Для родных гибель близкого человека – трагедия!
Распутин не разжалобился:
– Столыпин обречен исторически, географически и наследственно. Его предок, военный губернатор Севастополя, был в 1830 году растерзан восставшим населением. Другой сродник, примыкавший к декабристам, принял яд в имении под Москвой: опасался ареста. Если добавлю: бабушка поэта Лермонтова – урожденная Столыпина, поймешь, почему не пофартило внуку-стихотворцу, когда стрелялся близ горы Машук. Нынешний Столыпин, волей случая взбежавший пуншевым пузырьком из провинциальных губернаторов в премьер-министры, слишком долго примеривался: сделаться последователем вольнолюбивого Лермонтова и отравившегося предка-декабриста или душить свободолюбцев? Выбрал понапихать всюду двойственных, как он сам, провокаторов, они и с охранкой сотрудничают, и в круги революционеров вхожи. Но такие прикончат любого… В том числе своего же покровителя. – Морщась, Григорий Ефимович изобразил, что разглядывает (уже не с помощью логарифмической трубы, а через микроскоп) противную букашку. – При ближайшем изучении не только Столыпин, но и член Думы Пуришкевич, и князь Феликс Юсупов, ты его сегодня увидишь, оказываются – склопендрами. Перейдут в разряд бестелесных продолжателей своих земных пропорций и станут клопово или блошино маршировать на парадах, учиняемых по ночам в заброшенных дворцах удавленным Павлом Петровичем… – Словно бы невзначай Распутин козырнул отсылкой к своей якушкинско-декабристской родословной. – Клопу Столыпину далеко до Бестужевых, Рылеевых и Якушкиных… Клопы выбирают насосаться дармовой крови, такова природа паразитов.
– Разве плохо жалеть? Защищать? Даже случайно произведенных в начальники? Даже грешных! – заговорил регент. – Есть в православии удивительный день: Прощеное воскресение. Каждый винится перед каждым. Такого праздника нет ни в одной религии: очищаемся, избываем нанесенные обиды… Прости Столыпина и Дедюлина!
Обострились скулы, угловато выперли жевлаки на лице старца:
– Близкий нам с тобой Николай Александрович платится и за своих бесстыдных преступных предков, и за Столыпиных-Дедюлиных. Как в кабаке: допоздна засидевшийся покрывает кутеж всей схлынувшей компании. Николай Александрович – последний в династии, ему отольются всехние мерзости, хотя не виноват, что мать Петра Первого прижила будущего императора от своего дяди, не виноват, что первые Романовы, Михаил и его мамаша, казнили Марину Мнишек и ее трехлетнего сыночка. Николай Александрович не виноват, что Александр Первый дал согласие на убийство своего отца Павла Первого, а Александр Третий затеял взрыв кареты Александра Второго. Да-да, Александр Александрович Третий, громадный и неповоротливый, укокошил – царя-неубийцу (а цари-неубийцы – большая редкость: если не пускаешь кровь другим, тебе ее отворяют!) – учредил, еще при жизни Александра-Освободителя, комитет для охраны своей могучей косолапой персоны. Своей, обрати внимание, а не отцовской, ибо цель была обратная – ведь папаша намастырился завещать престол не сыночку, зачатому в законном браке, а побочному, от графини Долгорукой, чем и подписал себе смертный приговор. Взорвали его аккурат перед совещанием, где намеревался упразднить самовластие! И вот, после взрыва, когда следовало усилить работу охранного комитета: ведь могли убить и поспешно влезшего на трон громилу, комитет был ликвидирован. Свою задачу он выполнил и стал ненужен. Императорство не принесло Александру Александровичу счастья: денно и нощно истекал кровью пред его очами взорванный им отец, кровь из оторванных бомбой ног текла по мраморным ступеням Зимнего дворца… – Распутин уже не с воображаемым микроскопом упражнялся, а всматривался в нечто жуткое. – Она до сих пор струится – из гематом наследника Алексея…
Волнение раскрасневшегося, разоткровенничавшегося (в звучании слова опять дробно стучала кровавая капель) Распутина передалась регенту.
– Что, если наговоренное тобой об Александре Александровиче, о Петре Великом – напраслина? Навет? И – не стрекозы они, тонущие в текучей воде, не белки в пустовращаемом колесе, а барахтающиеся посреди сложнейшей жизни люди? Обыкновенные люди. С недостатками, но великие! Построить город, какой построил на болотах Петр… Выступать миротворцем, как Александр Третий…
Шея, лицо Григория Ефимовича набрякли свекольной, нездоровой, схожей с предзакатной воспаленной багровостью.
– Эх, Висса… Зря сердобольничаешь! – Регент опять искал и не находил в распахнутом вороте старца шрамы отсечения иоанн-претеченской головы. – Тени убиенных понапрасну живых не беспокоят. Мне явился дух царя-освободителя и объявил: нынешний поминальный колокол звонит из-за того, что Ипатьевский монастырь – еще до вступления под его своды первых Романовых – опоганен кровавым Годуновым: гибель в Угличе царевича Димитрия и убийство Михаилом Романовым трехлетнего малыша Марии Мнишек – казни-близнецы. По кровавой колее пришел в Тобольск Александр Первый (он же странник Федор Кузьмич), а Александр Третий – к неслучайному крушению поезда, где ехал с семьей. Этой же дорогой ведет за руку на эшафот Николай Александрович Алешу-цесаревича… Невыполнимо их спасти, коли защищаемый тобой Петр Аркадьевич бросает на чашу весов все новые казни. В Киеве, на открытии момумента Александра Второго, он фланировал в белом кителе. А праздник-то – кощунственный, укореняющий память о злодейски взорванном царе! Торжество, даже самое столыпински-столпотворенное, завершается – в лучшем случае – разочарованием, в худшем – озлоблением. Но Столыпин жаждет пьедестала. Петру Аркадьевичу невмоготу, что Лермонтова и Александра Второго – чтут, а его, Столыпина, не жалуют! Но если убьют… Да еще в театре и в белой одежде, при стечении публики… Тогда... Удостоится памятника. И плевать ему на дочек и на жену!
Водянистый слуга, возникший в дверном проеме, доложил:
– Константин Петрович прибыли-с…
Виссарион Петрович вцепился ногтями в обшивку кресла. Вставшие дыбом волосы тянули к лепному потолку. Челюсти заклинило.
Обер-прокурор, шаркая, приблизился и кивком поприветствовал гостей. Аскетичный лик, прямая спина, скользящая походка…. Мундир сидел кособоко. За Константином Петровичем семенил Малюта с тростью и коричневым кожаным портфелем подмышкой.
Опустившись на стул, кощеистый мозгляк обратился к регенту:
– Что с вами, Виссарион Петрович? Вам дурно? Или перестали верить в бессмертие души? – Кастаньетно (хотя слово это лучше писать через «о» – в связи с костянистостью звучания) прищелкнул скелетными фалангами, просвечивавшими сквозь тонкие перчатки. – Не должно испытывать сомнений: душа способна принимать любое обличье – кота, собаки, сарыча, поползня, карася, вербы… О чем, кстати, повествует сказка про сестрицу Аленушку и братца Иванушку: душа Иванушки переместилась в козленочка...
Регент вынырнул из обморока: волосы перестали топорщиться, губы и зубы растиснулись. «Все в порядке. Как и должно быть. Ведь в порядке? Можно запросто калякать с сарычами, поползнями и очевидными покойниками. Естественный ход: полежать-полежать на овальном столе в убранстве искусственных цветов, да и подняться... Прежняя императрица – из улитки обернется вербой. Константин Петрович, почив, пребудет в здравии (как и Малюта, посрамивший на овсяном поле кайзера), учтивости в обер-прокуроре не убавилось – смерть, что называется, во благо!».
– Рад вас видеть… – Виссарион Петрович вполне справился с собой. Ему хотелось прибавить: «Живехоньким».
Распутин, щерясь (что не предвещало хорошего), обратился к мертвецу:
– Я поручал вам поговорить с поэтом Пушкиным.
Константин Петрович пожевал губами, заслонил грудь (как на дуэли – пистолетом) полученным от Малюты портфелем, напялил очки и выставил острия коленей – буферная заградительная козлоногость не остановила Распутина:
– С какой стати вы, любезный Константин Петрович, самоуправно покинули столицу и увязались за царем? Кто разрешил?
Победоносцев, уставившись поверх крикуна на распятую посреди стены облезлую волчью шкуру, задумчиво произнес, словно силился вспомнить или боялся забыть, что за лихоман его донимает:
– Распутин… Распутин… – Игнорируя старца, повернулся к регенту: – Кто он есть, чтоб указывать?
– Состоялась ваша встреча с Александром Сергеевичем или нет? – бушевал Распутин. – Отвечайте!
Кончик носа Победоносцева покрылся изморосью. Обер-прокурор, не желавший, чтоб его отчитывали (да еще при слуге!), сделал Малюте знак удалиться. Но Распутин гаркнул:
– Пусть останется. И расскажет: как посмели забрать у Шимона посох?
– Царю надобна трость. По примеру Иоанна Грозного, для вразумления родственников, – пребыстро ответил Констанитн Петрович.
– Позвольте молвить, – напевно и церемонно начал Малюта. – Главная трудность несения клюки: она вещественно тяжела…
– Вот оно что! – затрясся от бешенства Распутин. – Пустили насмарку важнейший разговор! Втемяшиваете царю то, что выгодно вам! Прихватываете все, что плохо лежит! Не хватало еще, чтоб начал размахивать всевидящестью как палицей! Вам обоим запрещено покидать Петербург!
– Обернулись туда-сюда мигом, одна нога здесь, другая там, – стараясь утишить Распутина, угодливым бисером сыпал Малюта. – Помните сказку о девочке и медведе: она залезла в короб с пирожками, а медведь этот короб взвалил себе на спину? Мы облюбовали в качестве экипажа полый мундир царя… – Малюта счел нужным пожаловаться: – Вы, Григорий Ефимыч, дюже злы и зело дежавю. Аки рыкающий тигр.
– Сказками потчуете: о переселении дущ в козлят и о девочках в коробах! – Распутин в негодовании, кажется, готов был по-тигриному (будь у него хвост) исхлестать себя. – Я ваш замысел раскусил! Крадете не только трости, но и время! У меня его вобрез, а вы заставляете по три часа киснуть в панихидном маринаде! Рассчитывали, мы не дождемся и уйдем? Не на тех напали! Давайте посох сюда! – потребовал старец. – За ним посыльный приедет.
Обер-прокурор, сочленив лицом кукиш с торчавшей загогулиной зеленоватого носа (гипсовая белизна, скукожившись и заплесневев, цветом стала похожа на капустный лист), повел рыльцем вправо-влево.
– С какой стати скандалите? Я умер и никому не подчиняюсь! С поэтишками и художниками якшаться отказываюсь! Сверх всякой меры независимы. А более всех – Пушкин. Он и в земной ипостаси был вздорен, и, преставившись, не исправился. К тому же не чистый славянин.
Малюта подкурлыкнул:
– Эфиеп! Арап! Фармазон!
– Иное дело Гоголь, – пытался отодвинуть миг расставания с приглянувшейся чужой всевидящей собственностью Победоносцев. – Перво-наперво нужно вернуть голову Николаю Васильевичу. Он ею много чего домыслит. Во втором томе «Мертвых душ» дал ценнейшие указания: как жить.
Малюта зажал трость между ног и обхватил мохнатыми ручищами свою бородато-патлатую образину (словно опасаясь, вслед за Гоголем, ее утратить):
– Не надо Гоголю голову пришивать! Пусть несет наказание: привадил панночек и виев в божий храм. Да и Чичиков – сущий дьявол: скупает души, якобы мертвые, но мы же знаем: мертвых душ не бывает! Врубель спятил, то есть лишился головушки, по аналогичной причине: множил демонов – «Демон поверженный», «Демон сидящий»… Американца-безбожника Марка Твена (подлинное его имя Самюэл Клеменс) псевдоним не защитил, ибо создал книгу о сатане «Таинственный незнакомец», вот и настигла смерть всю его семью! Пушкину поделом вкатили пуляку в пах: святотатственно сажать русского Балду верхом на беса, а священника обзывать «толоконный лоб»!
Обер-прокурор разделял пафос своего прислужника, но заглядывал дальше денщика:
– Знаменательно: прикончил кучерявого арапа-бумагомараку французишка Дантес – соотечественник мсье Филиппа, подсуропившего рождение русского Минотавра! Я готов способствовать встрече феллаха Пушкина с Николаем Александровичем, если Пушкин согласится стать гувернером чудища, пусть читает пожирателю-людоеду «Историю государства российского» и водит на прогулки в Летний и Нескучный сады. Населению надо внушать: чудовище – что с того, что рябое и шестипалое – законный правитель. Будущее всегда поначалу пугает. А притерпишься – и ничего… Надо, чтоб к Минотавру привыкали...
У Распутина лопнуло терпение:
– Не будет Пушкин прислужником уродств! Если к чудищу привыкнут, сами станут чудовищами. Нельзя доверять человеческим предпочтениям, милующим Варавву, а не Христа! – Выхватив у Малюты трость, старец взмахнул ею, как городошной битой. – Не пущу Минотавра на трон! Вышибу из него дух!
Полемизировали до сумерек. Прощаясь, Распутин притворно (и недобро) распинался перед обер-прокурором:
– Нижайше прошу, Константин Петрович, не сбивать Николая Александровича с панталыку. Не лезьте в чужие мозги своими дубинками. Не потворствуйте отчленению смысла от головы! Государь, чего доброго, не Иовом Многострадальным, а царем Миносом возомнится – выбор-то у не располагающего широтой кругозора и не определившего, на кого походить, невелик!
Едва вышли из каменного, в черных ледяных наростах, склепа, продрогший Виссарион Былеев стиснул предплечье старца:
– Отпусти в Москву! К сыну! К дочерям! К жене!
– Константин Петрович недолго задержался в раю, турнули его оттуда, – намеренно не о том и заочно доругиваясь с обер-прокурором, отвечал Распутин. – Малюту отправлю в преисподнюю, если не перестанет благоглупостить.
Помимо квартиры на Гороховой (старец шутил: «Шут гороховый живет на Гороховой») Григорий Ефимович арендовал дом на Мойке («наиважнейший для всей России», говорил он) – туда, отослав охранников и отдав им трость, велев отвезти ее своему секретарю Арону Симановичу, Распутин и повел регента. Брели, подняв воротники, чтоб не быть узнанными. Снег скрипел под ногами. Метель перемежалась падением с неба мелких монеток. –
– Жизнь – сплетение реального и неправдоподобного, – вгонял изнуренного Виссариона Петровича в еще больший раздрай Распутин. – Огромную цену платит человечество за попытку не быть бычеподобным, сычеподобным, обезьяноподобным, минотавроподобным! В начале каждого века – бедлам, поминки по дояблочному дозмеиному досатанинству и очухивание: некуда деться, если алтарные врата опоганены, а гробницы-пещеры, откуда пречисто вознеслись Христос и Дева Мария, запустело многолюдны. Инспектируя усыпальницы, чтобы пощупать чудо и воочию убедиться: упокоенных тел там нет – утрачиваем угодную Богу детскость: сдвинем любопытства ради заслон с могилы Чингис-хана, скинем с кремлевских пиков двуглавых отгоняющих нечисть орлов, вытрясем мощи преподобного Сергия Радонежского из ковчежца лавры… Отмени гибель Столыпина, о чем ты хлопочешь, и перебалансировка эта потянет за собой отмену убийства Александра Второго – дабы у обреченного премьер-министра отпал повод ехать в Киев на открытие памятника упразднителю крепостного права… Но и Александр-Освободитель, и Столыпин-палач устренены точно в срок. Покушений на того и другого случалось предостаточно. Господь щадил обоих, пока не увидел: несчастных в России прибавляется. Верный знак: если счастливых убывает, а обделенных прирастает, диктат Господа, защищающий царей и их приспешников, слабеет… – Распутин опять томил, недоговаривал. Или, напротив, пугал, перебарщивал? – Николаю Александровичу вторая голова, ох, как не помешала бы!
– Царь не дракон! Зачем ему две? – злясь на распутинскую заумь, возразил Виссарион Петрович. Он заболевал в чаду нескончаемой ахинейской тарабарщины.
Старец не выпустил регента из околдовывающих пут:
– Скоро даже телята начнут рождаться с запасными головами! Если б у Гоголя было два или три чела, почивал бы в Свято-Даниловой землице, где зарыт, а вынужден, будто Вий, слепо шарить в поисках пропажи по другим погостам. Единственной (увы!) царской головой захотят пополнить коллекцию, заспиртовать и выставить на обозрение. Потому что не надо отрубать бошки Пугачеву и Разину!
Законопатить бы уши и броситься наутек! Но яд растекался в морозном воздухе, откристаллизовывался снежинками, опускался кисеей на самаркандские узорчатые гробницы, проникал в наглухо запаянными раками со святыми мощами, наполнял бутылочно- кирпичные не обезорленные пока кремлевские башни: они кутафьились и константино-еленились в метельных порывах посреди ветреного, охраняемого каменными конями и бронзово скалящимися александрийскими львами проспекта. Виссарион Петрович вновь подпадал под магически-толмаческое ворожение:
– Александр Сергеевич наведывается в петербургскую предсмертную опочивальню… И на Черную речку, и на Арбат, и в московский храм Вознесения на Сторожах, где венчался с Натальей Николаевной. На потусторонних балах встречается с бывшей своей женой. Вызволяет свои пропадающие в туне рукописи. Свидания почивших мужей и жен в подобных случаях практикуются.
Вырвался вопрос:
– Отчего Пушкин не вымолил у Бога отсрочку?
– Исхлопатывать долголетие у Распятого? Тридцатисемилетнему у тридцатитрехлетнего? – строгостью старец не уступал синедрионцам. – У Той и Того, чей Сын распят?
– Господь ведь мог отменить убийственную дуэль!?
Распутин разил очевидностью:
– Если желание не воплощается, оно неугодно Господу. Пушкин перестал восславлять свободу. Реакционеры Богу не нужны. – Закруглил мысль старец опять непредсказуемо: – Гоголь умер до срока еще и потому, что превознес в «Арабесках» средневековье – как лучший период истории человечества! Кто такое попустит? Зато сейчас Пушкин, Гоголь и Всевышний неразлучны.
– Николай Александрович мечтал сделаться священником. Отчего не произошло? – спросил регент. – В тяготении к нецарствованию подразумевается пушкинское бегство от мирской возни…
– Поставь себя на место духовенства. Помазанник заявляет: «Хочу религиозный сан!». Переглянулись святейшества: «А если ему взбредет в брунейские султаны податься? С Николая Александровича станется… Тогда патриаршую митру – кому?».
Дом, куда Распутин и регент, отряхиваясь от снега, вступили с ветродуйной набережной, обдал печным (как из духовки) теплом. По скрипучим ступеням поднялись на второй этаж. Старец расположился за письменным столом, регент – на канапе у стенки.
– Не были распроданы его прижизненные книги, – скорбел Распутин. – А гениальными неопубликованными черновиками Наталья Николаевна выстилала клетки попрыгуний-канареек. Канарейки пели понятнее, чем он. Добиваюсь встречи с Пушкиным, чтобы объяснить ему: Николай Первый затравливал его и Лермонтова не из зубовного скрежета, а по недомыслию, как и Наталья Николаевна – царское и женское убогое превосходство не приемлют посторонних мнений. Констатин Петрович Победоносцев мог бы на Пушкина повлиять – он тоже посещает потусторонние балы – но выкикиморивается. Без Пушкинского прощения не снять проклятий с царской семьи. Денно и нощно прошу в церквях за Николая Александровича и его выводок! И все идет неплохо: царь и царица через меня внемлют Богу… Но благополучие хрупко, а большое дерево, падая, увлекает за собой малые деревца. Фараоны, не скрываясь, забирали в гробницу слуг. Новые правители мало чем отличаются от тутанхамонов. Унесут с собой пол-России…
Разверзшейся болью отозвалось затронутое: перед регентом предстали опустевший трон, прозябающая Россия, Распутин восседал не в благоговейной пушкинской тиши, а в трактире, где к хвостато-рогатому наливале тянулась очередь просителей, отмериватель цедил: то скупо – годок или два, то – через край, плату взимал неукоснительно – с жаждущих жить, либо с их потомков.
Старец, сквозь ватную полудрему, доносил:
– Пушкинские строки вторят проклятию Марины Мнишек: нет счастливых правителей с фамилией Романовы. – И листал испачканные пометом канареек мятые страницы. – Жизнь своенравно дергает плечом, дает понять, что пренебрегает нашими предугадываниями. И жадно ловит начертанное и произнесенное. Знаешь, как умер дед Лермонтова? В святки нарядился в костюм могильщика из пьесы Шекспира «Гамлет». В могильном костюме его и настиг удар. Не панибратствуй со смертью. Не приваживай ее. Ищи в происходящем след прошлого! Первый Николай донимал Пушкина, Александр Сергеевич возьми да накарябай: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а невиданну зверушку»… Спустя годы исполнилось: кокосовый орех, а внутри – Бычеголовый Дух Смерти… Пушкин предрек: «Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу…». И это сбудется! Рифмы: Христос и амфибрахий праведников, Иуда и анапест предателей – клеймо; ямбы, хореи и дактили – аналог совпадения Александра Второго, Николая Александровича и удушенного Павла Первого, женатого на принцессе Дармштадтской. Будущая мученица, вдова взорванного Сергея Александровича Елизавета – тоже из Дармштадта.
Гнутые рожки прислушивавшейся к разговору тени норовили срастись в кольцо нимба. Распутин комкал бумаги.
– У обычного, рядового человека недоброжелателей раз два и обчелся – ну, соседи, ну, конкуренты, а царей клянут тысячи людей!
Под вечер дошагали до Гороховой (можно ли приискать поименование забытовленнее – от него так и веяло тряпками и похлебкой). Виссарион Петрович предпочел бы позднему сумерничанью вокзал (и отъезд в Москву), но Григорий Ефимович желал чаевничать.
Возле подъезда переминался субъект в приплюснутой кепчонке, ботинки просили каши. (Или опять-таки гороха?). Регент полез в карман за монеткой, но забулдыга жаждал иной милостыни – воздаяния своему таланту:
– Я – репортер Сергей Нилус из «Московских новостей». Правда ли, что государя хотели отравить в Златополе фаршмаком? Почему нет человека, в чьи обязанности входит пробовать кушанья его величества?
Виисарион Былеев сотворил серьезную мину:
– Я и есть пробовальщик…
Журналист обмер от счастья:
– Откройте тайны! Вас не допустили к дегустации сомнительной еврейской трапезы?
– Я сам отказался. Имели место неоднократные смертельные исходы… Семь моих предшественников окачурились в корчах! – Ограничившись этим признанием, регент проследовал в парадное.
Толокшиеся в вестибюле охранники доложили: составлен список вожделевших приема просителей, в квартиру Григория Ефимовича допущен (и дожидается наверху) только князь Юсупов.
– Я тебе о нем рассказывал, – готовя регента к неминучему знакомству, Распутин тяжело всходил по этажам: – Он – нынешний Герострат: и храм сожжет, и Россию пустит на распыл, лишь бы прославиться. Дальше собственного напудренного носика не видит. Женат на красавице, племяннице государя, а мужем быть не может, не пламенится. У него масса поводов меня убить: я – деревенщина, затесался в высшее сословие, Феликс ратует за чистопородность, он – внебрачный королевич: внучка Кутузова-Смоленского прижила сына от прусского монарха Фридриха-Вильгельма Четвертого. Мальчика назвали Феликс Эльстон. Он – отец Феликса.
Дочь Распутина Варвара проворно поднялась со скамьи в кухне и поклонилась вошедшим в пояс, вплетенная в русую косу бирюзовая лента коснулась пола. Попугайчики в клетке, которых она кормила, подняли галдеж. Из коридора, поглядывая на маленькие дамские часики, усыпанные брильянтами, вбежал напомаженный беспокойно-подвижный блондин.
– Многая лета, красавчик! – приветил его старец. – Разреши, Висса, представить тебе моего убийцу. Пушкину предрекли: примет смерть от светловолосого иностранца, и мне такое срифмовано.
Юсупов (бросалось в глаза: самовлюбленный до женской капризной плаксивости) изобразил вымученно-оскаленную улыбку.
– Чего добьешься, если прикончишь? – продолжил подтравливание Распутин. – Зароешь клад в своем имении, уедешь из России, впадешь в нищету, станешь, чтоб свести концы с концами, мастрачить книги о том, как в подвале особняка прикончил безоружного…
Варвара накрыла в гостиной стол, принесла блюдо с пирожными. Распутин кондитерских сахарностей избегал, но зачем-то прикидывался перед Юсуповым сладкоежкой, делал вид, что жует эклеры, сам незаметно отправлял их в кадки с фикусами.
– Ты, Феликс, ведь не чисто русский? – изгалялся он. – Юсуп – не христианское имя. Да и вторая твоя фамилия «Эльстон» – не славянская. А выступаешь за неподмоченность происхождения…
Не только блондинчику, но и Виссариону Петровичу было не смешно: выворачивание не комичных поводов – в подковырки не веселит.
Появился (то ли приехал, то ли находился в глубине квартиры) секретарь старца Арон Симанович – с эпистолярными заготовками. Его золотистая борода и такого же оттенка шевелюра придали электроосвещению ювелирный оттенок. Григорию Ефимовичу писанина помощника не понравилась:
– В телеграмме Готлибу Фальковскому я просил указать, чтоб не отпускал сына в Ясную Поляну. Я просил сообщить Шимону Барскому: добуду трость, а ты не обмолвился. Где она, кстати?
– За шкаф поставил, – лебезил секретарь.
– Не вздумай уносить из квартиры. Иначе не смогу узнать мысли Феликса! – подмигивал Распутин регенту.
– Расстараюсь, исправлюсь, комар носа не подточит! – обещал Симанович. И удалился вносить правку.
Распутин отыскал трость и ушел, как он сказал, колдовать. Варвара отлучилась к самовару на черный ход. Юсупов придвинулся к Виссариону Петровичу и с предельной выразительностью зашептал:
– Вызов обществу: взять в помощники Симановича! Прилипала пролез к императрице, дарит ей брильянты. Она не станет брать его подношения! В нашей семье брильянтов предостаточно! – Многозначительно поддернув крахмальную манжету с брильянтовыой запонкой, Юсупов обнажил уже виденные регентом усыпанные драгоценными блестками часики.
Не найдя в Виссарионе Петровиче сочувствия антисимановическим выпадам (и восхищения богатством), князь умолк. А когда вернувшийся Распутин, захохотав, с порога направил на него глаза рукояточного льва, стал поспешно откланиваться. С Григорием Ефимовичем он условился увидеться утром.
После того, как дверь за Юсуповым закрылась, Распутин отогнул угол занавески и долго смотрел на улицу сквозь заиндевелое стекло.
– Плетут сети… Может, сегодня меня и стрельнут. Или траванут. Цианистым калием… – И похвалил регента. – Ловко ты отшпилил окаянца Нилуса! Креста на нем нет: то газетные пасквили стряпает, то тем же пером восславляет преподобного Серафима Саровского…
– Нешто такое позволительно? – подражая Распутинскому говору, съязвил Виссарион Петрович.
– На том держится: высасывает из пальца небывальщину. Говорю ему: «В Священном Писании сказано: не клевещи! Серафим Саровский уединился в отшельники, чтоб душу не расплескать, а ты на его подвижничестве наживаешься, обращаешь в звонкую монету и потакание постыдному зуду: карябать перышком по бумаге!». И еще говорю: «Существуют семь далей. Даль впереди, даль позади. Даль справа, даль слева. Даль над тобой и даль под тобой». Нилус мне: «Назвали только шесть. Какая – седьмая даль?». Я ему: «А Владимир Иванович Даль! И его словарь! Читай умные книжки, безмозглый!»…
Все, кроме Варвары, у которой глаза были на мокром месте, засмеялись. Варвара не скрывала тревогу:
– Папа себя не бережет, окружен врагами.
Симанович подлил масла:
– Зачем пускаете к себе дрянных людишек, Григорий Ефимович? Наперегонки выклянчивают: кто – богатство, кто – протекцию. Домогаются концессий, яхт, карьерного возвышения… Полы затопчут, посуду измызгают. Мы с Варей потом тарелки отскабливаем, коврики выколачиваем…
Распутин оборвал:
– Прекрати, Арон! Теряльцам не отказваю. А сытую шваль отшиваю – хоть суют золото, привозят ящики с вином. Коль желудок переполнен, он теснит сердце…
Симанович журчал:
– Вы умный! Только напрасно Юсупова красавчиком зовете. Блондины не могут быть красивы, они – бесцветны! Ни кожи, ни рожи. Иное дело огненно рыжие, как я.
– Поддразниваешь убийц, – согласился с Симановичем Виссарион Петрович. – Для чего?
Распутин не отмахнулся, а ответил всерьез:
– Многие желают мне гибели. Я могу их громом и молнией изничтожить. Но… Одним – крест, другим – куриный насест! Всемогущему сыну Бога разве не по силам было испепелить ненавидящих и шельмующих, покарать проклинающих? Почему не предотвратил расправу над собой? Зачем приблизил Иуду? – И взялся наставлять не регента, а Варвару. – Прощая, Христос преподал: глупость и наглость безмерны, наскоком их не победить. Солнце встает рано, а злые и выгадывающие еще раньше. Как змеи расходуют яд, как лошади прядут ушами, так паскивильники – прядут слухи и изливают желчь. Заставить беззаконцев умолкнуть – все равно, что отучать верующего молиться. Ничего не стоит накинуть на болтливо-зубастые рты платок. Но на смену затевающим скверну заступят ничуть не лучшие. Потому: не препятствуй им. Господь этого не желает и язык и руки никому не укорачивает. Не пребыть незапятнанным, как ни старайся, ни одно доброе дело не остается безнаказанным: не подал милостыню – ославят: скуп, щедро подал – скажут: велики грехи, коль отсыпает много. Пусть многоустый суфлер испускает гадости, а многорукий пощечечник отвешивает удары: Богу надобно знать, до каких низостей способны опуститься мерзавцы, и быть готовым к любой их подлости. Благодаря навету на Иова, Бог выведал намерения нечистого, и пакости Сатанаила пошли во благо Господу и Иову. Мне и царской семье поклепы – на пользу. Пущай щелкоперы вроде Нилуса судачат: де цесаревича Алексея царица прижила от графа Орлова. Станут насылать сглаз и порчу на сына Орлова, а у Орлова нет детей! Цесаревич останется невредим! Граф Орлов, лежа на солдатском кладбище, помогает цесаревичу больше, чем иные живые. Потому царица носит на могилку Орлова цветы… А глупцы понимают превратно – со своей утлой колокольни! Я монаха Илиодора к царю водил и расхваливал, а он подсылает ко мне убийц. С превеликим облегчением я бы избавился не только от Столыпина и Дедюлина, но и от Илиодора и Юсупова, а с ними заодно – от великого князя Николая Николаевича, он, вражина, спит и видит меня вздернуть. Но тем, кто взялся воевать с озлобленными, надо заранее заказать по себе отходную.
Варвара, хлюпая носом, уткнулась в пяльцы с нарядной вышивкой – наволочкой для подушки-думки: хвостатыми петухами и пестрыми утятами. Распутин залюбовался ее художеством:
– Надо тебе, доченька, брать уроки живописи у Валентина Серова. Ему, как и Льву Толстому, продлю жизнь. Жаль, Врубель в сумасшедшем доме. У него поучиться тоже не мешает. Я его из лечебницы освобожу. Алексея Константиновича Толстого за его поэму об Иоанне Дамаскине воскрешу. И нареку Сергеем Есениным… Я приноровился управлять не только человечьими недугами и смертями, но и погодой. В ночь, как станут меня убивать, мороз затянет полынью. Зацеплюсь за край проруби… А и убьют – смертью своей покрою грех многих.
– Ради кого самопожертвование? Ради копошащихся червей? Ломать шапку перед неблагодарными? Выказывать свыше данную потаенность перед чинодралами и дураками? – досадовал Симанович.
– Что тебе до мелких глупых тщеславцев? Их не переделать, – поддержал Симановича опечаленный заведомой готовностью Распутина к приятию всего наихудшего Виссарион Петрович. –Следуй своей дорогой, не раздражай, не вынуждай завидовать!
Распутин взвился:
– Отмалчиваться? Прятаться? Утаивать Божьи истины? Не для того Господь отверзает своим избранникам глаза и врата грядущего! Лев Толстой правильно зовет: «Не могу молчать!». Господь хочет, чтобы ответчики за всех – глаголили! Если что-то кому-то поручает, требует предписанное исполнить. И накажет, если ниспосланным обязательством пренебрежешь. Бог понапрасну дары не разбазаривает. «Литургия» в переводе с греческого: людское дело – то есть служение. Малограмотные рыбаки силой Божественного слова сокрушили громаду римской империи, а вы подбиваете запечатать себе уста! Тогда стану – враг Господа! Несравнима бутафорская ноша показных бесогонов с той, что взвалили: я, Нострадамус, Толстой и великая княгиня Елизавета Федоровна, удивительная женщина, сестра любимой нашей царицы – в мужья Елизавете Федоровне достался несмываемо прозванный Ходынским Сергей Александрович Романов, повинный в давке на Ходынском поле, за него, заслуженно взорванного, она, голубка, молится, создала ради упокоения его раздраконенной души Марфо-Мариинскую обитель – монастырь, где монахини не бездельничают, а врачуют, учатся на медсестер, сама Елизавета Федоровна ездит по Руси, пригревает сирот… И ведь простила убийцу мужа! Приходила к нему в тюрьму христиански собеседовать… Увы, забудет о всепомиловании, разразится после моей гибели радующимся моей кончине посланием! Но я не жду елея. Добро надо творить без ожидания благодарности, а просто потому, что иначе нельзя, иначе восторжествует зло! – Из прихожей Распутин принес клетку с попугайчиками, выпустил птах и сбрызгивал их «пули-вели-затором», как он его назвал. Разумные пичуги выстроились в очередь, чтоб принять душ и почистить перышки. – Предугадывай худшее – не обманешься. Предполагай плохое – не ошибешься! – сюсюкал с птичками Распутин. – Никогда не бывает столь плохо, чтобы не стало хуже. Творящий добро приедается, а каждое новое проявление зла будоражит, будто долгожданное любовное свидание. Нет святых безупречных, крохотное замутнение всегда найдется, но вера в то, что безупречные не перевелись, есть доказательство существования неистребимой святости!
Ближе к полуночи позвонила из Александровского дворца Анна Вырубова и просила старца срочно прибыть: Алеше стало худо.
Распутин засобирался:
– Не могут остановить кровь… Об чем и страдаю: размывающая фундамент государства кровь продолжает струиться… Вот она, расплата... Лермонтов предупреждал: «Не смоете всей вашей черной кровью…». Не вняли! Теперь аукнулось Алеше безвинному – и гибель Пушкина, и гибель Лермонтова, и Радищева, и взорванность отторгнутого царя-освободителя, и смерть Димитрия в Угличе.
Симанович напросился ехать вместе с ним.
– Вдруг и я пригожусь? При мне коробочка с алмазами. Но и марганцовку, и спринцовку с собой прихвачу.
Возле подъезда околачивался Нилус. Он прилип к старцу:
– Григорий Ефимович, дайте читателям газеты наказ, чтоб и от сглаза пособил, и любовника приворожил...
Распутин бросил на ходу:
– Пусть повторяют: «Ежкин кот, кочережкин еж»
– Вы так делаете?
– Еще бы! «Ежкин кот…»
Репортер записал рекомендацию. Распутин и Симанович сели в авто.
– К царице? – не отставал Нилус. – В сложный узел переплетены отношения государыни с мужем. Симпатизируете ей?
Распутин погрозил щелкоперу кулаком, а Виссариону Петровичу предложил:
– Довезу до Зимнего? Крюк небольшой. Или, может, составишь компанию до Царского?
Регент отказался.
«Бугатти» укатил. Охранники вскочили в «Руссо-балт» и помчались следом. Виссарион Петрович двинулся к Зимнему (где ждала приготовленная комната), сомневаясь: не переночевать ли в гостинице? До «Англетера» рукой подать… Не хотелось встречаться ни с кем из свиты.
По пятам, шурша отваливающимися подметками, плелся Нилус и гундосил:
– Симанович богач. А у меня финансовая яма, нехватка средств!
Виссарион Петрович был наслышан о скандальном писаке – женатом на фрейлине Озеровой (ее отец, посланник в Афинах и Берне, обеспечил зятю международное паблисити и круглогодичные путешествия за госсчет), но закрутившем связь еще и с супругой высокопоставленного сотрудника охранки, надзиравшего за дипломатами (в том числе – за тестем любвеобильного борзописца): добытые от дам секретные пикантности политического свойства репортер-ухлестывальщик за двумя зайчихами-помощницами вкрапливал в статьи, благодаря чему обрел широкую известность.
Теперь он осаждал регента:
– Почему никто не разубедил государя встречаться с Шимоном? Эта нация только вредит: не Александр Третий должен был сделаться царем, а его старший брат Николай. Но Николай умер. Не Николай нынешний должен был стать царем, а его старший брат Георгий. Но Георгий умер. – Нилус понизил голос, будто на пустынной улице их могли подслушать. – Почему Николай умер молодым? Почему умер Георгий? Их отравили! С целью протащить на престол какого-нибудь Симановича. Я заканчиваю труд о засилье заговорщиков. Не желаете ознакомиться?
Виссарион Петрович откручивался (с максимальной доброжелательностью):
– Увольте… Много дел.
Нилус подступал с другого края:
– А по дороге в Москву? Путь долгий. Да вы и оторваться не сможете. Настолько захватывающи мои разоблачения…
Регент думал: «Рядом с пронырой вынужденно начинаешь ловчить» и отбрыкивался:
– Слабое зрение. В вагоне трясет.
Нилус канючил:
– Хорощо к ним относитесь? Или запуганы их могуществом? Да, опасно бороться с таким сплоченным врагом. Но я не боюсь. Повсеместное неприятие этой нации другими народами носит провиденциальный, сакральный смысл.
Виссарион Петрович воззвал к здравомыслию:
– Сами знаете, что городите вздор. Никакого отравления не было. Ни Георгия, ни Николая. Ни Николая Александровича. Фаршмаком. Я пошутил, назвавшись пробователем царских блюд.
– Не вздор! Я дружу с членами Думы, с врачами. Они убеждены: Распутин покровительствует заговору. Кстати, подозрительное отчество: Ефимович! Я, если честно, и в Илье Ефимовиче Репине не уверен. Вызывающе антипатриотичное полотно он представил публике: «Иван Грозный убивает сына». Картину даже не хотели допускать на вернисаж, но определенные силы настояли. Дескать: какие плохие русские цари!
Регент не выдержал:
– Идите к черту!
И, конечно, попросил у Господа прощения за поминание нечистого. И посожалел, что не сказал то же самое чуть раньше. (Чрезмерная обходительность чревата большими неудобствами, чем резкость). Он опомниться не успел, как приставала впихнул ему в руки разрозненные листки:
– Не надо стесняться настаивать на своем! Я заставлю вас прочесть.
Виссарион Петрович предпринял попытку вернуть всученное:
– Заберите!
Нилус, глядя на Виссариона Петровича ясными бесстыжими глазами, отшпарил:
– Иногда приходится лгать, чтобы выявить правду. Христос подает пример: пошел якобы на смерть, прикинулся невечным, а потом воскрес – обманул дьявола, тот попался на уду, как пескарь. Вот и я: если чуток привру, пойдет на пользу.
И шмыгнул в подвортоню. Не в погоню же было бежать! Регент свернул рассыпающуюся кипу в рулончик.
Напрасно мечталось Виссариону Петровичу принять ванну и вытянуться на крахмальных простынях, накрыться верблюжьим одеялом. На смену мелиемелистому нахалу явился из недр дворца похожий на усатого сома (или распустившего щупальца осьминога?) Спиридович – в неимоверного размера каракулевой папахе (при том, что в натопленных залах было душновато), на боку болталась сабля, из кармана торчала рукоять револьвера.
– Вы сопутствовали государю в ночной час его исчезновения из поезда. С кем он виделся? О чем говорил? Куда Распутин возил вас сегодня?
– К Победоносцеву в гости, – искренее признался регент.
Начальник охраны, услышав правду, скрипнул зубами:
– Не ожидал. От кого другого – да. От вас, Виссарион Петрович, – нет. Нам нужно знать. В целях безопасности Николая Александровича и Александры Федоровны.
И уронил чернильницу-непроливашку, которая (наряду с саблей) была при нем: она раскололась о каменный пол… Осьминог в минуту опасности выпускает облако чернил.
Виссарион Былеев взмолился:
– Отложим до утра…
И, обогнув чернильное пятно, проследовал в аппартаменты.
Утром Виссариона Былеева (есть ли, бывает ли отдохновение?) ровным протокольным тоном мытарил Бенкендорф. Слух о монархе, побывавшем средь старинных книг и в абрикосовом саду Шимона Барского, циркулировал– как вода по чугунным батареям Зимнего дворца. Виссарион Петрович отделывался междометиями и думал: «Гораздо лучше чувствуешь себя в компании привидений, чем рядом с живехонькими нетопырями!».
Отбоярившись от навязчивого выпрашивальщика и спеша на вокзал, столкнулся близ Иорданской лестницы с разрумянившейся, возвращавшейся после прогулки Евгенией Казимировной Ивановской, юная фрейлина куталась в нежно-голубую песцовую шубку, прическу венчала колонковая, формой схожая с казачьей, кубанка, девушка щебетала, что получила, наконец, квартиру в Александровском дворце, близ государныни.
– Коридоры Зимнего оделевают призраками, ведут в бесконечность, привидения стекаются даже из Африки. Уж не говоря о Трансильвании!
Евгения Казимировна поделилась:
– Из моей прежней подчердачной комнаты я шла на раут и увидела странника. Он сидел на камне с низко опущенной головой. Сын Божий был точно таким, каким изобразил Его на картине «Христос в пустыне» художник Крамской!
Сообщала прелюбопытное: к давней своей приятельнице Александре Осиповне Россет захаживает Пушкин, а к фрейлине Варваре Александровне Нелидовой, в соседнюю опочивальню, где обитает дух тетки жены Пушкина Екатерины Ивановны Загряжской (она состояла фрейлиной более двадцати лет – еще при прежней императрице), недавно пожаловал Николай Первый. У Анны Тютчевой гостит муж – писатель Аксаков. Александр Второй наведывается к Екатерине Михайловне Долгоруковой… Терзающим для Евгении Казимировны стало признание Екатерины Карачаевой – в эту молоденькую сиротку влюбился юный Александр Первый, а когда стало ясно, что она станет матерью его ребенка, выдал ее замуж за флигель-адъютанта Василия Исакова. «Царям можно все, – жаловалась, обливаясь слезами, эта красивая девушка. – А каково было мне? Мужа я не любила, и он не мог меня полюбить. Сыночка ненавидел – как живое напоминание о моем грехе. Царь о сыночке не забывал, произвел в генерал-майоры. Муж завидовал, сам он не дослужился до высоких чинов…».
– С Пушкиным можно увидеться? – извлек главное из щебета Евгении Казимировны регент. – И с Николаем Первым?
Она ответила утвердительно.
Виссарион Петрович принял решение: отложить свой отъезд. Слишком существенно было почерпнутое от Евгении Казимировны.
Миновав Изумрудный и Малахитовый залы, он поднялся во Фрейлинское крыло. Навстречу, в длинном платье, шла камер-фрейлина графиня Тизенгаузен, не замечая Виссариона Петровича, она смотрела прямо перед перед собой, следом за ней скользила, пожевывая высохшими старушечьими губами, Александра Андреевна Толстая, обе направлялись к фортепиано, над клавишами лакированно поблескивавшего инструмента порхали пальцы Прасковьи Арсентьевны Бартеневой, октавы ее изумительного голоса наполняли воздух. Из створчатых дверей выходили и пускались танцевать дамы и кавалеры: Александр Первый и Второй, царицы Елизавета Петровна и Екатерина Великая… Регент увидел Пушкина, вальсирующего с Натали.
– Не могут налюбоваться друг другом, – сказала регенту графиня Тизенгаузен.
Она просветила Виссариона Петровича: Феликс Юсупов-Эльстон планирует убить Распутина на следующей неделе, в заговоре участвуют великий князь Дмитрий Павлович и доктор Лазаверт – они наняты несостоявшейся русской государыней Марией Мнишек. Но тревожиться не надо: призраки Фрейлинского коридора снеслись с дружественными Романовым привидениями, обитающими в особняке графа Юсупова-Эльстона (расстояние меж особняком и Зимним дворцом невелико), и совместно обдумали план спасения Григория Ефимовича.
– Мы выбрали сибирского праведника своим поверенным в земных делах, – объяснила графиня. – Представителем в бренном мире. – Она посмеивалась. – Духи являют собой неутомимую субстанцию, они помешают убийству.
Надо было спешно сообщить обо всем Распутину, а регент не мог заставить себя уйти. Из музыкальной залы начинался исток песчаной дороги. Пребывая во власти взбаламученных чувств, регент пошел по ней. Под ногами проседала рыхлая почва, по обе стороны зеленели пальмы с огромными, как уши слона, листьями. Рябило в глазах. Не хватало дыхания. Знойно и солнечно было в этой чаепроизводящей части света. Рядом шагал импертор Александр Первый и говорил:
– Тут скроется после бегства из России мой неудачливый потомок… Почему здесь? Потому что уже бывал на Цейлоне, посадил в ботаническом саду деревцо. Здесь начнется новое бытие Николая Александровича. Пещера на вершине горы Полунарувы – древнейшее помещение Копилки Господа... Мы готовили для моих потомков другое убежище, хотели завладеть Босфором и Дарданеллами, ибо на англичан и немцев полагаться при спасении нашей династии нельзя, но не получили эти проливы…
Виссарион Петрович увидел Дедюлина и Столыпина, впряженных в повозку, они тащили ее (как рикши), пот струился по запыленным лицам. Царь сказал:
– Заштукатурить их грехи можно, с виду станет ровнехонько, но ни одно изъятие, а они изъяли из жизни многих, не проходит бесследно. Столыпины, Мосоловы, Бенкендорфы, Дедюлины осознанно не причащаются добра, а должны бы трусцой припустить к духовной благодати. Может, Господь простит их, непригодных и бесполезных? И определит в стойло к другим таким же, как они, жвачным и бессмысленно блеющим? Но что проку: буренки в церковь не ходят, овцы книг не читают…
С Виссарионом Былеевым раскланялся Константин Петрович Победоносцев – уже не исторгавший изморось, как накануне, а оттаявший и не казавшийся протухшим: напротив, розовеющий щеками и игриво грозивший Виссариону Петровичу пальчиком:
– Не доверяйте Евгении Казимировне. Красивые молодки склонны к преувеличениям…
Приехавшему на Николаевский вокзал Распутину регент в подробностях доложил об увиденном.
– Помалкивай о том, что сказал тебе мертвый государь, – велел Распутин. – И о Пушкине. И о Фрейлинском коридоре. И о цейлонской пещере. Евгению Казимировну я навещу. – Дал наказ: – Из квартиры, которую занимаешь в Москве, съезжай.
Виссарион Петрович возроптал:
– Пусть не дотягиваю до осознания твоих и Господних планов, готов вместе с тобой встать плечом к плечу против скопища мирового зла, но из привычной квартиры не съеду!
– Еще как дотягиваешь! Ты – другой, чем Столыпины и Бенкендорфы, – возвышающе окормил Виссариона Петровича Распутин. И вытащил из-за пазухи флакон с прозрачной жидкостью. – Отведай – отвар шиповника. Полощут меня, называют пьяницей, конокрадом. Забыв: в Сибири украсть коня невозможно – некуда сбыть, до ближайшего поселения скакать сотни верст. А на ворованном поймают и побьют. – Распутин взболтал раствор. Поводил над ним рукой. Вытащил пробку и приложился к горлышку, отхлебнув едва ли не половину. И впал в юродство (а Виссариона Петровича очередной раз ткнул в мизерность его галактических представлений): – Минотавр поселится на Красной площади в мраморном шалаше, в усеченной, без верхушки, пирамиде и повадится вставать по ночам с каменного одра и бродить по Москве. Чтоб ненароком не попасться людоеду на пустынных трассах, переедь в тихий Еропкинский переулок, это недалеко от привычного тебе Зубовского бульвара. Не хочешь брать новое имя, наречься Скрипичным Ключом или Сахарной Головой, так хоть пристанище смени. Семье твоей это позволит уберечься… Я тоже найму другую избу. Извещу тебя, где меня искать. О Петре, сыночке, радей. Людей склеивает грязь: а он не замаран, весь в тебя: не позволяешь себе скатиться до властного верховенства, нам с тобой оно ни к чему. Ни пустые бенкендорфовские и делюлинские ордена-финтифлюшки, ни раскаряченные памятники. Власть, даже если от Бога, даже если не хочет крови, проливает ее – то давит народ на Ходынке, то избавляется от мешающего соперника… Обсуждать, убеждать – слишком муторно и долго, проще толкнуть – на плаху! Кровь нужна механизму Истории – как бензин мотору не нужной мне машины. Больше крови – быстрее ход. Не литры, не галлоны, не цистерны, а моря крови выпустят, чтоб пустить под откос устойчивую махину богосозданного мира! Пересвет, сын князя Владимира, слащаво прозванный Красно Солнышко, умертвил братьев Бориса и Глеба. Александр Невский, ты верно подметил, приносил в жертву языческому Велесу лучших своих друзей... Не бывать бы ему ни в одном ярусе иконостасов, если б не сподобился угодить в покровители Первому, Второму и Третьему Александрам. Не родись Петр Великий в день воителя Петра – не Петербургом бы назывался город, где сейчас пребываем… Памятники ставим – тезкам, тем, кого полагаем равными себе, а себя мним их продолжателями и продолжениями. Современники должны уловить, угадать, проследить преемственность. Но поскольку у каждого, кто вправе возводить монументы, свои предпочтения и пристрастия, среди памятников, а не только в повседневном вареве жизни, разнобой и неразбериха…
Виссарион Былеев вцепился в поддевку старца:
– На извечности доброты стоит мир! Сбереги моего сыночка! Всех, кого можешь, огради от мученичества!
Распутин утер губы рукавом.
– Князь Владимир вырвался из разнузданного смрада и взошел над Россией солнцем! Александр Невский сажал людей на кол, но очистился и принял перед смертью постриг, стал смиренным схимонахом Алексием. Елизавету Федоровну, чурающуюся малейшего греха, уже сейчас бы причислить к лику святых… Семь столетий крестилась Русь двумя перстами. Христос и Его апостолы, и канонизированные на Стоглавом соборе русские святые благославляли двуперстно… Но Алексей Михайлович возмечтал стать всемирным православным царем, патриарх Никон – всемирным патриархом, вот и раскололи русский народ надвое, возгласив троеперстие единственно правильным, чем поставили арифметические начала на службу вражде: сел на кол – единица, двоеперстно перекрестился – двойка, то есть неудовлетворительная оценка в школьном аттестате, троеперстие – тройка, то есть удовлетворительные, приемлемые познания по религиозной шкале, о четвертовании мы уже говорили: это наш с тобой удел. А о том, почему «13» – несчастливое число, объясню: ноябрь – одиннадцатый месяц в календаре, декабрь – двенадцатый. Дальше должен идти тринадцатый, ан нет, не бывает тринадцатого месяца, год начнется с января. А он – всегда первый... – Бесновато вывороченные белки глаз Распутина бельмовато мерцали. Помолчав, он излудил: – Пятерни хватит, чтоб сосчитать добряков, добром добившихся добра. Бросят заживо в шахту близ Алапаевска Елизавету Федоровну. Тебя застрелят. Сыну твоему отсекут мизинчик. Всех, кто близ Христа, настигают Его стигматы: доброта – не промокашка и не способна впитать и поглотить зло… Война возникнет из-за того, что застрелят добрейшего эрцгерцога, наивно мечтающего объединить народы на основе любви.
Речения впивались рыболовно-острыми крючками, тащили в обморочную безвоздушность, выдирали-выдавливали из обвисших легких остатки кислорода. Виссариону Петровичу вновь привиделась трактирная стойка, хвостато-рогатый нацеживальщик и наполняемые сатанинским пуншем стопочки, стаканчики, бокалы и кружки, тянулась очередь за продлением жизненного срока, тянулись руки за эликсиром. Вздохнув до межреберного спазма и выпроводив туман из головы, но теряясь: сложить щепоть для крестного знамения из двух или из трех пальцев, регент исторг:
– Да минует страшная чаша!
Старец подтолкнул еле переставлявшего ноги регента к вагону.
– Коль позволишь благосклонности излиться на Петрушу, он утратит право на уготованное ему испытание. Навлекай неприятности! Многие продолжают жить только потому, что боятся умереть. Но мы-то с тобой не из таких, верно? Если сбросим взваленную Господом на наши с тобой плечи ношу, Россия прахом пойдет. Выдающиеся судьбы торчат, как Эйфелевы башни. Мы – по доброй воле – великомученики. Чем тяжельше крест – тем долгожданее кончина. Жаль, Висса, что суть предназначения открывается на пороге небытия. – Распутин выплеснул остатки влаги из графинчика на платформу и невнятно заключил: – Заговор мумий спасет Россию. Александрийские львы призовут их из Египта в Петербург. – Орлино старец глянул по сторонам. Он опять превращался в весельчака – Поколение за поколением возводило Исаакиевский собор, на строительство ухнуло аж сто пятьдесят годков. Мумии приплывут в корабельных трюмах из Каирского и Лондонского музеев, сойдутся близ Невы. Мощи Александра Невского, что покоятся в лавре, не подпустят врага к Петрову форпосту. Ленин станет мумией! Сталин станет мумией! Твой сын отыщет череп Гоголя. И защитит великую княжну Елизавету Федоровну.
Из-за туч выглянул краешек оранжевого солнца. Померкли вращавшиеся в зрачках Распутина глобусы, перечеркиваемые зигзагами молний. Старец сунул порожний графин в карман, бутылочка звякнула о металл. На ладони Распутина взблеснул крапчатый ограненный тунгусский осколок. Теперь он походил не на игральную испещренную мушиными точками кость, а на детский кубик.
– Скоро Эрне Рубик изобретет шарнирную головоломку. Рубикон будет перейден! Многодетная простенькая матрешка сгинет и воцарится кубик Рубика! Упорхнут обливные купола православной обтекаемости, островерхие кирхи и минареты уступят место пентограммам и согнутым под прямым углом локтям расталкивающих народы свастик! – Старец подбросил и поймал тунгусский осколок (как вспорхнувшего мотылька). – Именем моим назовут рестораны в Париже и Москве… Разве пристало мне такое почитание? Разве такую память я заслужил? – И чохом отмел сор пустяков и недопониманий. – Надо успеть перековать горнила графа Льва Толстого и живописца Валентина Серова, отсрочить день гибели эрцгерцога Фердинанда…
Обязывающе, закабаляюще звучали эти слова.
ОПРОМЕТЧИВЫЕ ШАГИ
Четыре опрометчивых шага совершил Пинхас – словно голову ему подменили (а то и ампутировали, как Николаю Гоголю, Степану Разину, Людовику Шестнадцатому и Марие Антуанетте): 1) пошел в шинок и напился, 2) вызвал на карточную дуэль Мойшу Хейфеца, 3) пытался извести в доме-развалюхе мышей и крыс, но главный (4-й) – покинул Златополь, лишив Готлиба и Рахиль согревающей сыновней ласки.
Впрочем, у влюбленного не бывает, не может быть зенита здравомыслия, как нет у него привычных (в общепринятом понимании) умелых рук, послушных ног, гибких тазо-бедренных суставов, отсутствует слух, подводит зрение, люди и события предстают в воспаленно-горячечном, тифозно-холерном мареве. Охваченный сполохами лихорадочных метаний, загарпуненный стрелами не знающих промаха купидонов (развлечения ради и от нечего делать разящих беззащитные живые мишени) страстный безумец не видит никого и ничего, кроме предмета своего обожания, и безотчетно превозносит разбившего сердце прекрасного истязателя – за нанесенное увечье. Несчастный подранок лелеет надежду – подпалить чудесный объект своих воздыханий неугасимым пламенем взаимности, затеплить волглую колоду одержимостью встречных кипящих чувств, и крайне обескуражен: почему стрельба искрами и чирканье спичками не дают эффекта – сырость не раскаляется? Дотронься до такого впавшего в непринадлежание себе полыханца – а, может, уже обугленной головешки? – получишь нешуточный (не тебе, а вожделенному божеству предназначенный) ожег. Не внемля спасителям-огнеборцам, окатывающим не властного над собой самоуничтожителя струями хладной объективности, объятый испепелением чурбан (или выхваченная из горнила металлоплавильни болванка) завороженно поет, соревнуясь с завыванием печной тяги: «О, чудо! О, прелесть!» – имея в виду, конечно, не закопченный дымоход, не чугунную заслонку, не шкворчащую сковороду или бурлящую в кастрюле воду (могущую ненароком обварить и оволдырить), а славя исключительно лишившую его независимости мнимую или подлинную фею (или воображаемого сказочного принца). Грезы уносят беднягу – безвозвратно! – в копоть и чад, деформируют критерии, выхолащивают обязательства, смешивают возможное и несбыточное, ослабляют волю, кривят нравственный императив…
Пинхас затем учинил еще и пятую, шестую и седьмую оплошности: поехал в Китай, где обучил грамоте Мао Цзедуна, участвовал в покушении на Льва Троцкого и, вместо Ленина, возглавил первое в мире государство рабочих и крестьян – за эти просчеты сурово себя клеймил, однако, наинепоправимейшим, нещадным преступлением до конца дней числил отлучку в Ясную Поляну и Вену (хотя признавал: не случись взбалмошного странствия, и не сподобился бы Лев Толстой полюбить Шекспира, а психоаналитик Фрейд и доктор Флеминг – не вгляделись бы пристальнее в целебность плесени). Детям (своим и своих знакомых, подпавших под разработанную совместо с Янушем Корчаком педагогическую систему) Пинхас внушал: Богу – богово, кесарю – кесарево, Толстому – шекспирово, конгрессу – собраниево, не счесть конференций, конфирмаций, коллегий и симпозиумов, парламентских ассамблей и теорем, доказанных плутами и опровергнутых учеными, а также бессчетных литературных экзерсисов, но родители – в отличие от сменящихся волн бесконечных поколений и перпетуум-мобильных умствований – единственны и невосполнимы (ать-два, вот и весь перечень), утрату не возместишь аксиомой, орфоэпической аллитерацией и заумныит коллеквиумами…
Отсобеседовав с Шимоном, Пинхас торопился к Янкелю, разглядывал себя в висевшем на стене зеркале, приглаживал шевелюру, присаживался на стул, вскакивал, ерошил волосы, теребил пуговицы и мочки ушей.
– Я должен выполнить предписанное! Не могу ослушаться Шимона. Но хорошо ли, правильно ли, по силам ли мне превратиться в того, кем хочет сделать меня Шимон – по плечу ли совладать с не предназначенной мне жизнью? Легко сказать: соверши подвиг! А с какого бока подступаться к подвигу?
Янкель видел: перед ним – неуравновешенный, перевозбужденный, с помутившимся взором выкрикиватель бессвязностей. Потому изъяснялся осторожно:
– У тебя прекрасные виды на будущее в Златополе. Ехать в Вену не надо. Ты не знаешь немецкого! К Толстому тоже лучше не ехать! Ты нравишься Шимону. Этого достаточно. Поездки ничего не изменят.
– Хочу понравиться Ревекке, а не Шимону! Если побываю у Льва Николаевича, смогу добиться ее любви!
Янкель задумывался. Он всегда задумывался, прежде чем что-либо произнести. А Пинхас кукожился (сознавая несостоятельность собственных притязаний), пыжился (распираемый авансами Шимона: «Отдам за тебя Ревекку!») – пребывал в постоянном расшатывании, как на качелях или на ходулях:
– Завоюю Ревекку! Произведу благопритяное впечатление на Льва Толстого и Сарру! Не могу не ехать, Шимон верит в меня. Но как я выступлю на конгрессе? С трибуны? Ведь я не оратор!
Влюбленный не знает пределов самовозвеличивания и границ самоуничижения! Янкель вощил крылья воспарявшему Икару, а параллельно подстилал перинку падавшему с высот Дедалу:
– Коли я затял бодягу, Ревекка будет твоей. Но нет связи между ее чувствами и поездкой! Удиви Ревекку. Женщины любят, когда их развлекают. Расскажи о людях-лошадях! А выучить язык несложно: немецкий произошел от еврейского…
Лишь друзьям и родителям (тем паче, если они умнее нас) вправе мы безоговорочно подчиняться. Пинхас признавал превосходство Янкеля. И благодарил:
– Да, расскажу Ревекке о нашем с тобой детстве!
И отметал наставления:
– Ревекке интереснее слушать о Толстом. А Шимону – о конгрессе.
Он не допускал малейшей дискредитации Шимона, чья непревзойденная всеосведомленность – даже, допустим, в случае микроскопической осечки-погрешности (хотя трудно таковую применительно к неохватно-всеобъемлющей эрудиции предположить) – осеняла столь наивывереннейше и плодотворно, что привычное заверчивалось кульбитом и с головой (то есть по сути безголово) ввинчивало в омуты невероятного. Открывались непредставимые дали. (Неправота милых осеняет отрадой – впротивовес раздражающей безошибочности тех, от кого воротит, само их пусть ни на что не претендующее наличие – повод цапаться).
Прочитанные «Воскресение», «Анна Каренина», «Смерть Ивана Ильича», «Война и мир» дали ответ на множество вопросов, но не продвинули неофита в постижении переменчивого нрава помыкавшей им красавицы: без пяти минут (ах, если бы без году неделя!) жених витал средь ослепляюще недостоверных картин, заключенных в драгоценные рамы бессмертных цитат: «Все счастливые семьи счастливы одинаково!», и обмирал от боязни очнуться не в галерее искусств, а в мастерской по изготовлению миражей и подделок-виньеткок.
С соизволения Шимона (все еще не могшего решить: спровадить влюбленного побыстрее или вовсе его не отпускать), Пинхас овевал Ревекку согласованными с Янкелем суждениями о Вронском, Безухове, Наташе Ростовой. Не нарочито (и вне договорености с Янкелем) обращал ее внимание на свое сходство с Наполеоном, пусть, в трактовке Льва Толстого, малосимпатичным, но (Толстой это признавал) сумевшим – при небольшом росточке и незнатном происхождении – добиться весомых успехов на любовном и ратном поприщах. Ревекка остерегала кавалера от спрямленных высказываний, прививала вкус к аллегоричности. Но куда как часто добросовестный ученик ловил откровенно скучающие взгляды ненаглядной умницы и удручался ее капризно-снисходительными гримасами.
После сладостно-мучительных самоистязательных встреч Пинхас искал (и находил) утешение у Янкеля («Спасибо, друг! За все – преогромное спасибо! Распутин хлопочет о моей свадьбе, царь изложил Шимону пожелания о помолвке. Особый низкий поклон – за то, что проштудировал кондуит, иначе я бы не знал, о чем разговаривать с Шимоном!»), либо брел – через скошенное поле, меж рыхлых рыжих стогов – к одинокой мельнице, валился на траву, грыз соломинку, вспоминал, под кряканье уток, детство возле похожей мельницы на реке Пешне: семьи Готлиба Фальковского и Эфроима Кацмана крепко дружили, Пинхас и Янкель помогали отцам таскать мешки с мукой, купались и загорали, водили лошадей в ночное. На мельничном чердаке швырялись, будто мягкими подушками, маленькими серыми совами. Совы квело водили желтыми круглыми глазами, летать в светлые часы они не могли. Зато в сумерках переставали быть чучелами, больно клевались.
В один из солнечных дней табун полуконей-полулюдей упруго проскакал по ржаным угодьям – развевались башлыки, сияли ордена и эполеты. Буренка Рогуля – со страху? – опросталась теленочком. Обычно телята рождаются весной, их забирают из хлева в теплый дом, чтоб не простудились. Рогуля принесла приплод в июньскую жару! Янкель и Пинхас вытащили пятнистого детеныша за торчавшие крохотные копытца и обтерли осокой. Теленок, шатаясь, стоял на тонюсеньких ножках. «У него такие же пятна на светлой шкуре, как у Рогули! – заметил наблюдательный Пинхас. – Похожее производит похожее!».
Крестьяне, чью рожь вытоптали коне-всадники (пострадали и капустные грядки, и делянка с люцерной, и льняная плантация), нагрянули в имение, куда проследовали кентавры. Исколошмаченного заморыша-жеребчика Пинхас и Янкель выхаживали потом в сарае, он едва шевелил сухими губами: «Я – будущий правитель Малороссии гетман Скоропадский. Расходы на мое содержание возмещу». Драгоценные, инкрустированные бриллиантами подковы (изогнутые в форме буквы «омега») были сорваны с его копыт разгневанными селянами – в уплату за нанесенный ущерб.
Новые накопытники выковал кентавренку кузнец Эфроим. Оклемавшегося будущего гетмана Янкель и Пинхас проводили по изумрудному лугу до пыльной дороги. На прощание он шершаво лизнул спасителей. Но прокатиться на спине не позволил, а позвал в Киев, обещав развлечь там, и посоветовав сплавиться по реке на самодельном плоту.
До Киева сорванцы так и не доплыли. В Житомире они обнаружили первоначальные сорванные крестьянами брильянтовые подковы кентавренка (местный священник приколотил полукружья в качестве нимбов к алтарным образам, из той житомирской церкви и проистекло поверье: «Подкова – на счастье!»), но вернуть гетману подковы-нимбы не получилось, ребят сбил с панталыку повстречавшийся им на пристани населенного пункта «Гнилопядь» репортер Марк Твен: он по заданию американской газеты приехал изучать Россию и со слов Янкеля и Пинхаса записал историю их приключений, которую впоследствии издал как сагу о Томе Сойере и Геке Финне. Подковы у юных сердобольцев он изъял в качестве пожертвования на нужды якобы голодающих индейцев.
Отцы настигли потерпевших кораблекрушение (плот разъехался) отощавших беглецов и сурово отчитали – из-за всыпанной мальчиками перед отплытием в кормушки коровам и хрюшкам свежемолотой крупчатки у животных случился заворот кишок: «Думайте преже чем сделать малейший шажок! Живите не как попало, а отборно. Не засоряйте дни и ночи пустяками, даже приятными. Сулящий златые горы и зовущий в Киев и при этом не поступающийся своими привилегиями, подобен обирателю детей и побеждает пиррово и ненадолго – падеж стад и вытаптывние угодий при таких доброхотах неизбежны!».
Попытку мальчиков оправдаться отцы раскритиковали: «Балабольте без тягомотств! Если хотите, чтоб к вам прислушались, преувеличивайте смешное, иначе утонете (и слушающих утопите) в слезах. Вас пинают и лупят ремнем, а вы гогочите: «Боюсь щекотки!»!», из вас отбивную делают, а вы сквозь выбитые зубы лыбьтесь: «Спасибо за удоовольствие!»…
На занятиях, происходивших между минхой и мааривом – полуденной и вечерней молитвами – Готлиб и Эфроим приуготовляли Пинхаса и Янкеля к карабканию из нищеты и подневолья: «Поражения учат: мало выстоять под натиском, надо сделать шажок вперед. Не подозревайте преуспевших – в плохом, а неуспешливым – не отказывайте в подмоге. Причины неудач не сваливайте на окружающих, а ищите в себе. Не завидуйте. Упаси Бог узнать, чем богатые оплачивают свое богатство. А живущие в просторном доме – роскошь. А женатые на красивых – красоту жены. Устанете наводить лоск на ослепительную супругу и жилище!».
Призывали бежать от денег, а не за ними: «Купюры и юркие монетки превращают хозяев в рабов: закружат в томном танго или быстром фокстроте и протанцуют в одиночество. Одинокое веретено не нужно никому». В подтверждение приводили не требующий разжевывания довод: «В революциях побеждают те, кому нечего терять!». О деловых связях отзывались осторожно: «Удушат». Поощряли нестяжательство, в охотку выполняли заказы тех, кому нечем было расплатиться: «Не в тягость работать ради самой работы и ради тех, у кого ни гроша!». Присовокупляли: «Никакой труд не пропадет. Никакая подвернувшаяся трапеза (кроме отравленной) не лишняя: неизвестно, когда выпадет шанс подкрепиться. Не покупайте ненужного. Не выбрасывайте надоевшее: однажды пригождается все. Кишечник освобождайте впрок: утром садитесь на горшок и тужьтесь – чтоб не обделаться, если прихватит неурочно».
Параллельно с навыками портняжничества, кашеварения, ковки, кропотливо прививали воззрения, не уступавшие премудростям Шимона (порой, в непринципиальных частностях, противоречившие его позиции): «День длиннее, коль не гнаться за часовыми стрелками». (Ни Готлиб, ни Эфроим, в отличие от Шимона, хронометров не имели и не советовали Пинхасу и Янкелю ими обзаводиться). «В поток бытия встревайте вдоль, а не запрудой поперек». (Шимон полагал: не следует подражать большинству и не страшился быть причиной преткновений). «Сторонитесь дураков и пьяных, а если некуда деться, отличайте сомневающихся в безграничности своего разума, с такими можно поладить, от убежденных в своей непревзойденности, эти неисправимы». (Опыт Шимона говорил: абсолютно глупых нет – хотя бы потому, что абсолютно глупые не сознают, к счастью для них, собственную глупость, просто у каждого свое разумение – короткое или продолговатое.) «Обращенную на вас неприязнь исхитряйтесь пустить под жернова вашей выгоды. Будьте настороже: если чего-то или кого-то не понимаете, приостановитесь».
О лошадях, собаках и совах Готлиб и Эфроим призывали заботиться особенно бережно: «Не обижайте безропотных, им не избегнуть слепней, кнута и детских шалостей!». Эфроим, перед тем, как подковать каурку, нежно обтачивал ей копыта напильником и повторял: «Сделаю тебе маникюр». Готлиб, снимая яблоки с ветвей, уважительно поглаживал каждое. Требовали от сыновей: «Благодарите Всевышнего за прожитый день и миновавшую ночь, наступивший рассвет и спустившийся закат, за текучую реку и тенистую рощу – ничего этого могло не быть даровано». Предупреждали: «Первый признак, что отвернулся Господь – отсутствие друзей, ибо друзей ниспосылает Всевышний».
Пинхас и Янкель – уже в начальные розовощекие годы – вывели среднее арифметическое меж наказами Эфроима и Готлиба и непредубежденностью Шимона. Янкель примеривался отстаивать права согбенных изгойских народов. Пинхас ставил перед собой простенькие (но вот уж не запросто достижимые) задачи: получить (если повезет) образование, а не позволят – сколотить капиталец, открыть лавчонку, подыскать жену с приемлемым приданым. Риск любовной бури не предусматривался. Но она грянула.
…Шумели, привлекая резвящихся стрекоз, сочные, с мохнатыми шоколадными эскимо на длинных стеблях камыши. Квакали лягушки. Пара трясогузок разгуливала по береговой кромке: самочка кокетливо окуналась и отряхивалась, муженек склевывал мошек. «Завидуют ли малые птахи большим, скажем, цапле? – напряженно думал Пинхас. – Если трясогузку раскормить до размера гуся или глухаря, не получится ли уродство?». Аналогия смешила и огорчала. «Правильно учат мой отец и кузнец Эфроим: толика смеха присутствует даже в грусти!». В мозгу роились фантасмагорические, как у всех влюбленных, преувеличения: «Если неумелому гребцу вменяют – стать кормчим, не превратится ли он в посмешище? Но вправе ли он бросить весла, не ввязываясь в спор со своей негожестью?».
Самочка, не пискнув, не чирикнув, не позвав кавалера, вспорхнула. Забыв о еде, провожатый помчался следом. «Уверена в собственных чарах, уверена: он никуда от нее не денется… Ревекке не до меня. Но я не могу без нее…».
Посреди стремнины поток был чист и светел, как путь к Ревекке, который следовало преодолеть. В затонах покачивались темные водоросли препон с налипшими улитками неурядиц, посверкивали в зеленоватой глубине молнии рыбешек-опасений, по отражавшей небо глади скользили угловатые угрозы-водомеры. Солнце пропекало до глубинных косточек. Впротивовес его лучам пробирала береговая прохлада. Пинхас думал: «Жизнь соткана из противоречий. Отступить? Надуться смешным гусем? Вытянуться смешной цаплей? Сделаться рабом на галерах? Впороться в шторм, треплющий паруса? И стать вровень со стихией? Или сбежать с корабля?».
Растрепанные чувства обретали русло. Ревекка обмолвилась: ее избранником станет тот, кто сможет дискутировать о четвертом томе «Войны и мира» вровень с яснополянским романистом-философом. Что ж, требовалось проявить изобретательность и сноровку! «Я должен ехать. А не длить пораженческую апатию неутоленности собственной внешностью: даже в маленьких птичках клокочет стремнина чувств!»
Наперерез готовому свершиться преображению полз агатовый, в оранжевом ошейнике, уж. Черная кошка перебегает дорогу – к неприятностям. А траурная неядовитая змееподобность? Воплощенный намек на веселую азбучность: «Уж замуж невтерпеж»? Пинхас проводил посланца судьбы испытующим взглядом. И вприпрыжку припустил в кузню. Он кричал, размахивая сброшенной на бегу, чтоб не тормозила движение, жилеткой (в которую не собирался хныкать):
– Еду немедленно! К Толстому! Раздобуду его автограф!
Янкель вздувал кузнечные мехи. Эфроим удерживал клещами свежевыплавленную фонарно полыхавшую фигурку лошади и молотобойно ее околачивал. Летела окалина.
– Не надо ехать! – не прекращая шерудения, бросил Янкель.
– Еду! Иначе не видать мне Ревекки, как своих ушей! – кричал Пинхас.
Эфроим, не прекращая обмолот, подтрунил:
– Посмотрись в зеркало – увидишь собственные уши.
Пинхасу было не до подначек.
– Еду! Еду! – он баюкал свою решимость, как писаную торбу.
Отец и сын обменялись понимающими взглядами. И прервали формовку.
– Клин вышибают клином! Очумение – очумением, – негромко (но Пинхас все равно не слышал) произнес Эфроим. И направился к врытому в землю (охлажденное не скисает) кувшину. Зачерпнул ковшом густую шибающую в нос влагу. Поднес полную до краев емкость Пинхасу. Пинхас отвел угощающую руку.
– Необходима ясность. Незамутненность мозгов. – Пинхас не отдавал отчет, что городил.
Кузнец сам опорожнил чашу-ладью. И опять зачерпнул и предложил Пинхасу освежиться. Пинхас, не смея отказать могучему Эфроиму, пригубил. Он с детства уважал не склонявшегося перед лишениями мужчину.
Эфроим осушил следующий ковш. Вино текло по усам и бороде. Кузнец был высок, широкоплеч, ходил вперевалку, носил толстый фартук из дубленой кожи и медный магендовид на неперетираемой тесьме.
– Пей! – он заставил Пинхаса вторично приложиться к черпаку. – Знаю, твой отец предпочитает кальвадос. А я – коньяк, кагор и выжигающую водяру. Чтоб щипала, жгла, вытравливала чувствительность. – В бутылочной, фляжной, бидонной и бадейной наличности кузнеца грудились настойки, наливки, первачи, спотыкачи и шипучки. Эфроима снабжали первоклассной продукцией винокуренные заводы, коим он поставлял обручи для бочек и ограды для складов.
Эфроим накрыл ладонью выкованную им самим и прикрепленную к косяку входной двери мезуз,.
– И ты прикоснись, – велел он Пинхасу. – Эта медная полосочка не пускает внутрь дома горести и уменьшает греховность алкогольного забытья.
Он предложил Пинхасу на выбор: наперсточек шартреза или стопочку абрикотина. Пинхас глотнул зеленоватого мятного забытья, а потом и абрикосовой сладости и, в порыве благодарности, замельтешил по кузне: выглядывал в окна, выбегал (словно боялся опоздать на отбывающий поезд) на улицу, возвращался, гремел шпингалетами, натыкался на большие и малые выкованные Янкелем и его отцом Эфроимом фигурки лошадей. («В каждой семье свой тотем, – предстояло с помощью Пинхаса усвоить психоаналитику Фрейду. – У одних – абрикосы, у других – яблоки, у третьих – лошади!»).
– Лев – смешное имя, не находишь? – вопросил кузнец. Пинхас не засмеялся. – А фамилия того веселее. О чем толстый царь зверей может поведать в своих романах? Не надо тебе к нему навяливаться. Он лишен юмора, иначе не брался бы с такими именем и фамилией за перо.
Сыну (шепотом, поскольку выпитое начало благотворно влиять на Пинхаса, слух его обострился) обрисовал последовательность действий:
– Отшибить ему разум окончательно. И вложить новый…
Но до того, как покинуть кузню и приступить к гуманной трепанации в шинке, дал присмиревшему выкрикивателю глотнуть медовухи. С собой прихватил четверь горилки. Ее распили по дороге.
Входя в харчевню, Эфроим поклонился подвешенным над порогом твиллам.
– И ты поклонись, не помешает, хотя божественного покровительства мезузы вполне достаточно, – велел он Пинхасу. – Заручись согласием на употребление «вещей воды»…
Сели за грубо сколоченный стол. Меж хлебных крошек ползали мухи.
– Кыш, кыш! – отогнал их Эфроим. И начал исповедываться: – Всю жизнь я искал повод назюзюкаться. Нахрюкаться. Накеросиниться. Причин – хоть отбавляй. Жалко мух, жучков, рыбу, которую ловят, пользуясь ее незнанием надводных хитростей . Людей жалко, не знающих, зачем живут. И своей любви. – Эфроим пододвинул влюбленному принесенный половым полнехонький кубок.
Пинхас и Эфроим, чокнувшись, выпили. Кузнец обратился к болтавшемуся на шее магендовиду:
– Не гневайся! – После чего продолжил: – Очень переживала моя покойная жена. Что керосиню. Закладываю за воротник. Но мог ли я не пить? Родителей потерял рано. Шнырял из городка в городок, чтоб не поймали. Богатые семьи откупали сыновей от армии, а таких, как я, вылавливали и отдали в солдаты…
Эфроим заказал две рюмки рябиновой и опрокинул в себя обе. Заказал еще две и одну уступил Пинхасу. Кузнец следил, чтоб субтильный Пинхас не отставал в возлияниях.
– Эсфирь за меня отдавать не хотели, – делился пережитым кузнец. – Вот я и таскался по кабакам. Твои сложности мне понятны, Пинхас. Отец Эсфири на пушечный выстрел не подпускал меня к моей возлюбленной: дескать пью, дочь будет несчастна. Мать Эсфири – следом за супругом меня отваживала, пока ему в горло, произошло это на масленицу, не запихали блин без сметаны, вот и не удалось проглотить. Эсфири, потерявшей отца, ничего не оставалось, как пойти за меня. По безвыходнсти. Необходимости. И я заливал горе неразделенных чувств. Ну, а когда мамашу Эсфири затоптали сапогами, тут уж запил с полным основанием…
Пинхас и Эфроим опустошали графин за графином. Янкель предпочитал квас. Но и его глаза увлажнялись.
– Слышу отцовский рассказ о моей маме в сотый раз, а все равно рыдаю, – признался Янкель. И поклялся: – Я устрою твою свадьбу, Пинхас, вместо тебя поеду в Ясную Поляну. – Терзания друга были для него непереносимы. – А ты из Златополя – ни ногой.
– Я тоже не прочь гульнуть по Туле, Питеру и Москве, пройтись по Кузнецкому мосту, – размечтался Эфроим. – Эта улица в честь моей профессии… Ты, Пинхас, не езди никуда. Справимся с Сердечкиными, а там и Ревекку за тебя спроворим. Не получится заполучить любимую – тоже неплохо, может, даже лучше: женишься на нелюбимой, это легче, чем зависеть от капризов той, которой не можешь возразить. Я любил Эсфирь – и что хорошоего? До сих пор тоскую по ней. Дрянная доля! – размазывал вытекавшую из глаз горечь Эфроим. – Жена не вынесла моих попоек… – Он не уставал подливать Пинхасу. – Я научился с первого взгляда распознавать «хаперов», так их называли, эти евреи вылавливали еврейских сирот и продавали в рекруты. В незапамятные времена евреи держались заодно, потом еврей начал обманывать еврея, наживаться на еврее. Скоро будет создана жульническая кампания «Хапер-инвест». Облапошит честных людей. Вы, мальчики, не должны предавать еврейский голус!
«Удивительно, – думал Пинхас. – В высшей степени эгоистичное создание – человек – с превеликой готовностью бросается помогать!». Хотелось обнять и расцеловать Янкеля, Эфроима, шинкарщика Леопольда, полового Гришку, но ни привстать, ни произнести что-либо членораздельное не удавалось. Даже привычное: «Соберу вещи – и в дорогу!» не выталкивалось отяжелевшим языком. Но он плел:
– Надо ехать! Я должен.
Кузнец накачивал влюбленного, приговаривая:
– А, с другой стороны, кого обдирать, если не своих? Ни один нееврей еврею не поверит. Как в таких условиях кроить гешефты? На ком наживаться, если не на отцах и матерях, братьях и сестрах, племянниках и племянницах, соседях, инвалидах и детишках? На чем экономить, если не на собственном и чужом здоровье? И журналы печатают в помощь грабителям: «Русский инвалид». В нем – способы курочить калек и увечных. В изданиях для детишек воры призывают: «Дай детишкам на молочишко»….
Пинхас уронил голову на грудь. Янкель позволил беспонятцу-бессознавцу подремать, а затем проводил до дома. Пинхас бубнил:
– Я должен ехать!
– Не должен. Ты прочитал еще не все сочинения Толстого! Но сперва выспись.
Будь Пинхас в рассудке, он послушался бы друга. Но он лишь сделал вид, что поплелся отдыхать. А сам, когда Янкель ушел, устремился к дому Шимона и исполнил под окном Ревекки серенаду, которую сам же сочинил. (Ведь Янкель и Эфроим настрополяли его не грязнуть в серой однообразности).
Никогда бы не узнал Шимон зятя с неожиданной стороны (хоть и был редкостно прозорлив), если бы не визит Пинхаса в шинок.
На следующий день дебошир стыдился выйти из дома. И оправдывался перед Готлибом и Рахилью. Пинхас дал им слово, что больше не переступит порог шинка.
Вася Панюшкин принес мучавшемуся голвной болью беспардонцу баклажку браги. (С ним пришкандыбал сообщник – страдающий поносом Никодимка Сердечкин).
– То, что тебя, Пинхас, развезло, это нормально, – участливо говорил Вася. – Нужно чаще пить, и привыкнешь. Удивительно другое: почему Шимон приваживает тебя? У тебя ни гроша, а лишь развалюха-дом и обдрипанный яблоневый сад. С какой стати мудрец возжелал тебя залучить? Что-то в этой затее не так – неправдоподобно сватать чернокудрую, с точеной, как у ферзя, фигурой, красавицу за пьяницу! Порви с коварным семейством и дуй из Златополя без оглядки!
Никодим Сердечкин вторил:
– Был у нас петух… Трусливый… Как ты. Соседский кукарека топтал наших курочек. Мой отец намочил зерно в горилке и покормил нашего трусливого петуха. Петух расправил грудь да как набросится на соседского! Загнал его под сарай!
Пинхасу, поневоле (но заслуженно) слушавшему гадости, сквозь земляной пол хотелось провалиться. Но терпел – ведь сам дал повод. «Надо ехать, – думал он. – Оставаться в Златополе стыдно».
Перед отбытием Пинхас заглянул к Янкелю и Эфроиму. Янкель настаивал: ехать не следует. А Эфроим вручил список народов (шутливо им составленный), которых следует остерегаться:
1. Украинцы (с постскриптумом: на завоеванных гитлеровцами территориях они уничтожат в три раза больше евреев, чем оккупанты).
2. Поляки – задолго до гитлеровского нашествия загонят евреев (якобы в целях спасения) в гетто и, уже с ведома гитлеровцев, иллюминационно сожгут.
3. Литовцы – изведут на пространстве своей страны (в перид Второй мировой) евреев больше, чем понуждавшие их к этому гитлеровцы.
4. Латыши – не уступят литовцам в количестве казненных иудеев.
5. Белоруссы – последовательно осуществят начатый – во времена расселения евреев из Царства Польского – антиеврейский геноцид.
6. Русские – за малым исключением (лишь генерал Казимир Ивановский, вот, пожалуй, и все) прирожденные евреененавистники.
7. Немцы – во главе с уморительно усатенькими Гитлером и Гиммлером, начальником всех концлагерей – первостепенная опасность на ближайшие годы.
8. Швейцарцы (примут со сдержанной улыбкой на молчаливое хранение в свои хваленые, с незамаранной репутацией банки сбережения погубленных гитлеровцами евреев).
9. Евреи (из разряда хоперов), способные продать сирот-единокровцев в рабство и обосновать свою подлость необходиомостью укрепления обороноспособности почитаемой ими державы.
С 10-го по 99 пункты следовали национальности, не столь ярко изрубившие, расстрелявшие, отравившие, сгноившие десятки тысяч человек.
Эфроим сопроводил свод (не совпадавший с подсчетами Небесной Книги и кондуита Шимона) оправдательно-извинительной справкой-извлечением из стенограммы выступления Геринга на Нюренбергском судебном процессе: «Нации, народы и единичные представители этносов есть не что иное, как шестерни, трение меж ними неизбежно, движение без концлагерных зазубрин застопоривается».
От себя Эфроим присовокупил:
– Евреи лакмусом розлиты среди других народов, чтобы народы могли проверить себя и выявить свои человеческие принципы – в отошении тех, кто поставлен вне правил милосердия. Сочтете равными себе или вытворите то, что всемерно поощряется: уничтожите, затопчете, поизмываетесь?
Используя скальпельно рассекающую, обнажающую суть вопроса категоричность Эфроима (да и геринговского цинизма), Пинхас обложился книгами и газетами, проанатомировал «сцепку коленчатых валов» – то бишь взаимодействия законов Российской и Австро-Венгерской империй – и приуныл: поручение Шимона посетить еврейский конгресс в Вене представилось ему сложноисполнимым. Но ослушаться он не посмел.
Готлиб напутствовал чадо:
– В твои дела, сынок, всегда будет кто-то мешаться. Есть люди, природой созданные (и для того и предназначенные), чтоб греть руки на чужих бедах, стравливать ближних, вводить в траты, сдирать седьмую шкуру, они посоветуют наоброт, наживутся на твоих просчетах; старайся отличить выжиг от приносящих, а не отнимающих – удачу благодетелей.
Рахиль благословила уезжальщика ветхозаветно:
– Оставит сын отца и мать и прилепится к жене, станут они одна плоть. Хорошо, что не держишься за мой подол.
Пинхас видел: старенькие родители пересиливают себя, чтобы не показать, сколь тяжела для них разлука. Мягкая окутывающая фланель их заботы вспарывалась острейшими незабываемостями: когда впервые очумел, увидев Ревекку, и застыл на улице, глядя ей вслед (и был осмеян прохожими), Готлиб утешил: «Не все потеряно». Будучи насмешливо отринут (принес Ревекке скроенную по французским лекалам шляпку и удостоился едва заметного кивка), нашел успокоение в материнских словах: «Бывает, круча кажется отвесной». Ставшая привычной пренебрежительность красавицы склоняла Готлиба и Рахиль к согласию: «Сынок, если делаешь что-то не так, это простительно. А не сделанного не исправить».
Вася Панюшкин, смутно чуявший: наползает беда (и продолжавший подслушивать разговоры Шимона, особенно его задело высказывание Ревекки: «Кто мог предположить, Пинхас любит музыку и сочиняет серенады!»), счел нужным порадеть сопернику:
– В амбар перед отъездом запусти сов…
– Зачем? – спросил Пинхас.
– Совы не дадут расплодиться мышам! Мыши портят припасы. Мы с Никодимкой Сердечкиным лишимся причины наведываться к твоему отцу в гости.
– Только попробуй сунуться к моему отцу! – без всякой угрозы сказал Пинхас.
Кузнец Эфроим обещал отъезжающему менестрелю взять Готлиба и Рахиль под свою защиту.
С отцовским истрепанным чемоданом, робея (а кто бы не оробел при мысли о предстоящей беседе с Львом Толстым?), Пинхас убыл из городка, ставшего для него родным. Предварительно он мимолетно посетил Ревекку (заручился у Шимона разрешением на это прощание), она испекла, как было договорено, мацу. Если б знал, сколь роковую роль сыграет его визит (впоследствии Пинхас сурово ругал себя за эту неосмотрительность), может, не ездил бы никуда.
На пути в Ясную Поляну он обнаружил в коробке с мацой царский хронометр и записку Шимона: «Часы тебе пригодятся!». Вопреки привитой отцом нелюбви к секундной и часовой стрелкам, Пинхас не огорчился: благодушие объяснялось тем, что хрустящие бездрожжевые листики-прямоугольнички (всегда удававшиеся красавице-кулинарке и абрикосово таявшие во рту), количественно не убывали, сколько Пинхас ими ни лакомился. Поначалу он экономил и отламывал от больших листов небольшие кусочки (и смаковал: к волшебным хлебам прикасались пальчики Ревекки!), потом хрустел вволю: деликатес, спустя время, восстанваливался в изначальных объемах.
К графу путешественник явился полным бурлящих сил и радужных предощущений. (Хотя пришлось расширить полученный от Эфроима реестр недоброжелателей: вагонный проводник-мариец отказался подать горячий чай, а на вокзале в Туле носильщик-чухонец пихнул Пинхаса громозким коробом, да еще и обругал. Пинхас внес марийца и чухонца в черный перечень).
Великий романист встретил посетителя на центральной аллее своего обширного имения, напоил чаем на веранде, сообщил, что работает над циклом рассказов для крестьянских детей и подробно расспросил о златопольском житье-бытье. Толстой пребывал в глубочайшем разладе с собой.
– Почему Бог не хочет улучшения человеческой породы? – вопрошал он, скрипя плетеным креслом и потчуя сидевшего в таком же кресле гостя грушевым вареньем. – Я достиг вершины умственного развития, мое литературное мастерство непревзойденно. Еще шажок, еще усилие – и мои дети могли обожествиться. Но не произошло! Напротив, очевиден регресс. Они глупее меня, их умишко усреднен… То же наблюдаем во всемирной эволюции. Нас словно умышленно не допускают до вершин. Боюсь, Россия, которая добилась неслыханного экономического и интеллектуального подъема, будет отброшена в сползание…
Пинхас, обремененный заданием Шимона, взял с места в карьер:
– Нельзя унывать! Не за сомнения ли в наилучшести промысленного Господом пути вас отлучили от церкви?
Седобородый яснополянец глянул гневно. И обрушился на того, кто не был по натуре миссионером:
– Уж не под стать ли вы апостолу Павлу? Ловкач, фарисей-гонитель христиан Савл… Он же Павел… Славолюбивый и своекорыстный... Низкопоклонно стелившийся перед кесарями и в угоду богатым исказивший учение Христа: «Нет власти кроме как от Бога»… Евангелие говорит: все люди равны, Павел навязывает рабам повиновение господам и требует неукоснительно платить подати! – Толстой грозно свел седые брови: – Ненавижу конформиста Павла больше, чем подделывавшегося под вкусы дешевой публики Шекспира! У Шекспира – ходульные мавританские страсти, у охранителя Павла – приспособленческие виляния! Христос учит: надо прощать, а Павел призывает анафему на тех, кто не исполняет его, Павла, повелений, внушает исподволь: «Если мы не распутничаем и не делаем гадости здесь, в этой жизни, а награды в будущей жизни нет, то остаемся в дураках!»
Пинхас не рад был, что затронул столь болезненную для романиста струну, и старался пустить разговор по отвлеченно-литературному (увы, крайне сложному для прокладывания) руслу:
– В названии «Война и мир» какой мир имеете в виду? Мирное состояние общества между войнами или земной шар?
Толстой явно был застигнут врасплох этимологическими глубококопаниями Пинхаса:
– Не приходило в голову, что прочтение может быть разноречивым.
– Зачем умертвили Анну Каренину? А ее мужа сделали большеухим? – сыпал вопросами, уводя Толстого подальше от Савла-Павла, Пинхас. Лекции о Шекспире, которые воспринял от Шимона, и беседы с Ревеккой оказались неизгладимы, и это выручало шлимазла. Не напрягаясь, он воспроизводил: – Не надо никого умерщвлять. И обуродливать. Ни в книгах. Ни на сцене театра. Иначе получится: потворствуем отступлению от гуманизма!
Мохнатые брови писателя протестующе топорщились. Он прервал осмелившегося давать ему советы провинциала:
– Грех должен быть наказан. Эпиграф к роману впрямую об этом говорит: «Мне отмщение, и Аз воздам!».
За Пинхаса (и вместо него) будто держала речь сама любовь. Пинхас испытывал отраднейшее чувство равенства с седобородым литературным патриархом. Голос звучал убежденно и убедительно:
– Нельзя рассуждать прямолинейно! Безоглядность чувств должна быть вознаграждена. Я безответно боготворю девушку по имени Ревекка. Мне не на что рассчитываать. Но даже если она предпочтет другого, не перестану ее любить. И никогда не упрекну. Да, Каренин, как Кощей Бессмертный, взял в плен красавицу и готов лишить ее жизни, лишь бы удержать возле себя. Такое происходит не только в сказках: среди записей мудреца Шимона есть новелла о сиротке Екатерине Карачаевой, которую совратил царь Александр Первый, и о внучке Григория Распутина Евфросинье, она стала наложницей поработвшего ее тирана в пенсне по фамилии Берия…
Толстой внимал с возраставшим интересом. Морщинистое лицо разгладилось, щеки окрасились румянцем. –
– Возможно, вы правы, – задумчиво произнес он. – Когда я завершал свое сочинение, мною руководила неприязнь к моей собственной супруге. Она возомнила себя писательницей, сочиняет кулинарные рецепты. Фу ты ну ты! Закатывает сцены, повадилась вносить правку в мои рукописи. Прячу черновики и верстку. Я буквально готов ее растерзать, бросить на рельсы! Если начистоту, мне понятны метания царя: терпеливец уходит от истеричной императрицы в сад и стреляет не в осточертевшую скандалистку, а по воронам...
По-свойски просто Лев Николаевич признался:
– Ограниченная в умственном отношении Софья Андреевна ухудшила непревзойденную породу Толстых! Помните притчу: Христос повелел богачу отказаться от усадьбы? Я готов исполнить послущание и закончить дни в монастыре. Хочу пожертвовать Ясную Поляну в пользу бедных. Но, согласно закону, жена в этом случае должна, как и я, стать монахиней. Какая из Софьи Андреевны монахиня?
Договорить он не успел. На террассу выскочила пожилая дама с прической в виде сдобных уложенных на голове (как на покатом противне) плюшек. Она ударила Льва Николаевича половником и закричала:
– Это ты – не монах! А я – прекрасный редактор и стилист!
– Вот, познакомьтесь, это Софья Андреевна, – заслоняясь от ударов подстаканником (измятым, вероятно, в предыдущих сражениях с супругой), извивался в кресле Лев Николаевич.
Когда жена, тяжело ступая, ушла, Толстой вздохнул:
– Хоть из дома беги! Но я терплю. Писатель проистекает из несчастий. Нужен изъян, постоянно гноящийся фурункул, гвоздь в ботинке, бередящий, не позволяющий самоуспокоиться, душевно одрябнуть – убогое детство и нелюбящие родители, как у Максима Горького, неразделенная страсть, как у Тургенева… У Ивана Бунина отец – алкоголик. Чехов – неизлечимо болен и женат на гулящей актрисе. Куприн – горький пьяница, Достоевский – обкрадыватель собственных детишек, продувной игрок… У меня высокие гонорары, всемирный успех, но – жена-грымза... – Непроизвольно Лев Николаевич покосился на дверь, откуда могла снова выскочить супруга. – Поневоле задумаешься: зачем Судьба подсунула ложную, как апостол Павел, Софью Андреевну? Она перетянула на свою сторону священников: де, если отдам имение бедным, оставлю детей без средств... Пусть работают! – Граф вскочил и замельтешил по террасе. – Не хотят! Балбесы! Продадут усадьбу после моей смерти. Станут припеваючи кутить... – Толстой схватился за сердце. – Из-за чего порвал с церковью? Вернее, она со мной? Не только потому, что призываю искать Бога в себе, а не в позолоченных храмах, и не потому, что священники превратились в секту бесталанных популяризаторов, присвоивших право говорить от имени Христа (причем говорить неправду!), а потому, что оставаться в одной вере с апостолом Павлом непреемлемо! Интерпретаторов во все времена пруд-пруди, а творцов, как я, раз-два и обчелся. Но церковное отлучение – саднящая заноза, еще теснее породнившая меня с Христом. Я не понят, как Он. Проклят, как Он. Не униженному и не гонимому мне было не приблизиться к Распятому и Снятому с креста. Софья Андреевна – на стороне иродов. Ей бы зваться Ираидой! Она – эрзац семейного начала!
– Муж и жена должны быть целым, – обозначил свою неколебимую убежденность Пинхас. – Куда муж – туда жена. Ниточка с иголочкой!
– В моем случае, увы, уместнее пословица про «одну сатану», – сокрушенно признал Толстой. – Софья Андреевна – две, а то и три сатаны в одной юбке. Меня превратила в живой труп. В Федю Протасова! Взять бы и уйти с цыганами! Но, если покину детей, какими вырастут? С такой мамашей? Счастье отпрысков зависит от родителей. Либо родители созидают счастье, либо отнимают его… Мечтаю познакомиться с вашей невестой. Чтобы убедиться: существует настоящая, подлинная любовь.
– Вы оттолкнули собственных чад: дескать на них отдыхает природа, – стал вразумлять графа Пинхас. – Хотя ваша дочь Татьяна состоит в переписке с мудрецом Шимоном. Если бы я не был влюблен в Ревекку, приударил бы за Татьяной. И не уподобился бы Тургеневу, которого вы вызвали на дуэль за то, что увел вашу сестру от законного мужа, поматросил и бросил…
Пинхас одернул себя: «Не слишком ли я разошелся?». И опять свернул на литературоведческую тропку:
– Хорошо, что уделили наиярчайшие страницы своего бессмертного произведения Наполеону. Но стоило апропо отметить: напыщенный полководец получил всемирный щелчок по носу, был унижен прозванным в память о его бесславии слоеным пирожным…
Толстого поразила немудрящая простота суждений нежданного советчика. А когда Пинхас угостил писателя невесомо-легкой мацой, романист и вовсе растаял. Он высоко оценил вкусовые и питательные свойства «вечного хлеба».
– Это лакомство превосходит «наполеон» с заварным кремом… Во всяком случае тот, который печет Софья Андреевна. Замечательная у вас возлюбленная, – похвалил еще и кулинарные способности Ревекки Толстой.
Пинхас не стал посвящать графа в болезненные подробности своих отношений с Ревеккой и продолжил воспевать нареченную.
Благоухала сирень. Жужжали пчелы и шмели. Пинхас медоточил. И опять вместо него словно изливался кто-то другой. Шимон? Янкель? Распутин? А, может, сам Толстой? То был безыскусный гимн пылкого рыцаря, безудержная серенада серенад… Пинхас видел перед собой не бородатое морщинистое лицо и сутулые плечи гения, а стан прекрасной Ревекки! Он упоенно объяснялся ей в обуревающих чувствах, а романист и публицист принимал комплименты на свой счет и хрустел мацой. Время от времени классик делал пометки в блокноте.
– До вашего приезда я недомогал, – признался граф. – Мне даже показалось, я впал в летаргический сон, как Гоголь. А сейчас увидел себя и прожитое с недоступной прежде вершины. И осознал: все, что настрочил, не годится! Вот бы последовать примеру Гоголя и сжечь, уничтожить блеклые опусы… Увы, они разошлись по России несметными тиражами…
Пинхас уверил графа в непревзойденности его творений. Толстому были приятны лестные оценки (это бросалось в глаза), но высокопарные славословия неискушенного местечкового сладкоречивца побуждали безутешно огорчаться собственному интеллектуальному одиночеству: некому было распрямиться подле навороченной Толстым девяностотомной бумажной глыбы – в эпоховозрожденческий эпический рост!
После того, как попросивший и получивший автограф Пинхас-Ромео удалился, граф не находил себе места. Ночью он не сомкнул глаз, ворочался с боку на бок и восхищался: «Как искренне и горячо любит этот юноша! А я? Овладел Софьей Андреевной в экипаже, на сиденье, сразу после свадьбы. Грубо, пошло, по-животному… Как в «Крейцеровой сонате»… Почему не смог полюбить чисто и целомудренно, как Пинхас? Почему примирился с угнетающей семейной беспросветностью! Грош мне цена как главе рода и мастеру полифонической прозы!»
Он прошел по тихим комнатам спящего дома, разбудил мирно почивавшего доктора Душана Петровича Маковецкого, верного своего помощника:
– Если бы кто-нибудь раньше растолковал мне то, что я узнал сегодня… Я понял, почему не воспринимал драматургию сэра Уильяма! Начинаю менять мнение о Шекспире. Мне стали ближе Гамлет, Офелия, Яго и Отелло… Но сколько же времени потрачено впустую! Смогу ли начать новую жизнь?
Раздраженный тем, что его потревожили, и находясь во власти сна, Душан Петрович шепеляво ответил:
– Почему нет?
Собравшегося уезжать Пинхаса (еще не выбравшего – куда: в Златополь, чтоб вручить Ревекке книгу с автографом графа, или в Вену, на конгресс) Душан Петрович разыскал в пристанционной гостинице и снова повез к Льву Николаевичу.
– Я очнулся после летаргии, чтобы переделать «Анну Каренину»! – поведал молодому почитателю Толстой. – Я и о «Войне и мире» невысокого мнения. Такая дребедень! Но «Анну…» перепишу. Тем более, Чехов сочинил «Анну на шее». Успею ли?
Пинхас обнадежил графа:
– Вопрос поставлен не совсем верно. «Позволит ли Господь успеть?» – вот как правильнее сформулировать. Насколько мне известно, Распутин хлопочет о продлении ваших дней…
Толстой одарил Пинхаса благодарным взглядом:
– Вы филигранно улавливаете психофизику творчества… Да, писатель зачастую работает по наитию…
– Под диктовку Господа…
– Вот именно. Кстати, хочу спросить о маврах, бедуинах и прочих персонажах «Отелло» и «Веницианского купца»… Вы, несомненно, сведущи…
Пинхас, опираясь на слышанное от Шимона, исчерпывающе изобличил миф о превосходстве одних наций над другими и коснулся проблемы самоидентификации детей, рожденных в смещанных браках:
– Прослеживая историю человечества, обнаружим: белокожие, чернокожие, желтокожие потомки произошли от единых предков – Адама и Евы… Какие же признаки (под разноцветным кожным покровом) говорят о пропорциональности голубых кровей в жилах элиты и соотношении этих долей с неголубыми кровопотоками плебса?
Лев Николаевич шлепнул себя ладонью по лбу:
– Вы распахнули новый аспект: Вронский – не по метрической записи, а по голубизне, как вы изволили выразиться, крови – родственник Анны! Я обрисовал инцест Курагина с сестрой… И Долохова с племянницей. Но не изобразил ведущее к вырождению правящих классов внутрибомондное кровосмесительство! Это – невозделанный пласт. Я перевоссоздам конфликт Анны и Вронского! А для пущей рельефности сделаю Анну несовершеноолетней. И назову, скажем, Эллой… Или Лолитой. Получится: за ней увиваются друг семьи слюнявый старик Каренин и ее собственный отчим, нет, лучше – ее родной отец Вронский. Литературный порнограф Арцибашев рехнется от зависти. Интересно, от каких еще религий меня тогда отлучат? Между прочим, в образе малосимпатичного ушастого законного мужа Анны Карениной я вывел обер-прокурора священного синода Победоносцева. Умница Константин Петрович был против моего отлучения от церкви. В новом варианте романа я уменьшу его уши и дам ему фамилию Безухов!
– Вас изгнали из исконной веры, – воспользовался моментом и пошел на приступ Пинхас. – Но такой человек, как вы, составит гордостью любой религии. Мыслитель вашего уровня не может быть утрачен для богословия! Коль маца вам по нраву – переходите в иудаизм! В моих планах посещение сионистского конгресса в Вене. Можем поехать вместе.
Пинхас не скрыл:
– Возможно, вас смутит: иудаизм не предусматривает загробной жизни. По крайней мере, священные книги о ней не упоминают.
Толстого подробность не огорчила:
– Лучше умереть сразу и окончательно и не ведать, что будет после тебя. Я бы с ума сошел, увидев с того света, что у меня, как у Гоголя, оттяпали голову… – Граф ощупал шишковатую плешь и некоторое время пребывал в задумчивости. – Во всех вероучениях постулаты праведной жизни одинаковы. Обряды разные, а суть одна. Разумный человек видит то, что едино, а глупый видит то, что разнится. – Толстой подбил итог: – Я рад вашему предложению!
И позвал Душана Петровича:
– Где ближайшая синагога?
Маковецкий затруднялся ответить. Граф велел:
– Направьте мое заявление в ту, до которой можно дойти пешком от Хамовников. Район Лубянки и Политехнического музея!
Пинхасу он категорически не рекомендовал посещать сионистское собрание в Вене:
– Вашей возлюбленной не терпится получить мой автограф. А проваландаетесь, и либо книгу мою потеряете, либо упустите Ревекку…
– Я читал «Бэлу» Лермонтова, – на лету поймал мысль графа Пинхас. И поспешил опровергнуть пророчество: – Книгу не потеряю. Ревекку авось не похитят! – С некоторой заторможенностью он вымолвил то, что повергло в ужас и недоумение его самого: – Она уедет добровольно…
Условились с Толстым о следующей встрече. Но свиданию не суждено было состояться: утром, чуть свет, граф собрал пожитки. Душану Петровичу он продиктовал письмо для члена Первой Государствееной думы Владимира Дмитриевича Набокова с просьбой изъять из продажи остатки тиража «Анны Карениной», поскольку роман будет заменен другим, озаглавленным «Лолита». И вкратце изложил намеченный сюжет. После чего покинул имение.
Крестьяне, видевшие графа возле железнодорожной станции, рассказали Пинхасу: Толстой шел навстречу всходившему солнцу, и, казалось, чувствовал себя полностью обновленным. Встречным говорил, что спешит уйти из семейного рабства (хоть в пустыню!) и воспрепятствовать Анне броситься на рельсы, а ее преемницу Лолиту выдаст замуж за обычного работящего паренька. Возможно, иудейского происхождения.
– Голубизну кровей в мои сочинения отныне не пустят шлюзы всеобщего равенства! – повторял Лев Николаевич. – Софью Андреевну, этот ржавый гвоздь, я из ботинка выдерну. Буду ходить босой!
ДОЛИНА КОТЛОВ
Антон сознавал: беспередышечным надоеданием он извел дедушку. Но не переставал допытываться:
– Где мама, папа, бабушки Аня, Ревекка, Ольга, Лена, Гликерия?
Дедушка красноречиво умолкал, либо, предварив отговорку остерегающим жестом, начинал судить-рядить о чем угодно, только не о спрошенном. При этом длил утомительное проутюживание исхоженных вдоль и поперек долгих и коротеньких (иногда короче Ленивки!) улиц и наизусть прискучивших площадей.
Почему не звал в потайные уголки распростертого меж планетами, остававшегося для великовозрастного мальчика загадочным материка? По какой причине уклонялся от содержательных признаний? Все старания выудить: куда тянутся посверкивающие, экономно посыпанные монетками подвесные магистрали и что скрывается за стенами обнесенного неприступным валом Монастыря, натыкались на стоическую немоту, либо ускользающие эвфемизмы:
– Видишь ли…
– Мы в раю? Или не в раю? – тормошил дедушку Антон.
– С какого бока подойти… – Дедушка отводил взгляд. И ничего не прибавлял.
– Если это не рай, каким образом можно туда попасть?
Охранитель неразглашаемых богатств скупо отмеривал:
– Для тех, кто его находит, он есть. – И виновато улыбался. – А кому не дано – ничего не попишешь. Все поначалу ищут. Потом довольствуются тем, что обретают. Некоторые его оконечности беспрепятственно достижимы. Но…
– Он имеет несколько областей?
– А как же! – неожиданно расщедривался необъяснимо ревностный скаред (ради этих драгоценных, словно на аптекарские весы брошенных крупиц неувиливающей информации Антон его и донимал): – Облакоустройство, то бишь звездно-метеоритное содружество, состоит из множества анклавов. Самый отдаленный – побережье Желтого океана. Самый ближний – Долина Котлов. Ну, и Поле Бесплодных Колосьев, Территория Покинутых Женщин… Особенности административного деления отчасти копируют устройство земных государств.
Терминология провоцировала оползни новых дерзновений:
– Вот бы разжиться схемой… Географическим атласом! Справочником-путеводителем…
Стоявший на страже несметных сведений укрыватель поспешно схлопывал створки разверзшейся откровенности, доступ к сердцевинной бесценной жемчужине знаний оказывался перекрыт:
– Есть вопросы, не требующие энциклопедистики, ибо ответов не существует. Границы провинций, кантонов, префектур, муниципальных образований непостоянны. Картографии не поспеть за их изменчивостью, фиксация оборачивается архаикой.
Антон созрел для самостоятельной вылазки в будоражащую непредсказуемость.
Поекивало сердце, когда в одиночестве взбирался по крутому откосу, изборожденному ржавыми фрагментами давным-давно рухнувшего земленебесного моста. Крылатые монахи – то ли выказывая неодобрение неповиновению нахального непослушника, то ли обманувшись отсутствием всегдашнего старшего компаньона-опекуна, проворонили-не-сопроводили диверсионный рейд. Без их (и дедушкиного) направляюще-указующего руководства Антон заплутал и вскарабкался не к привычному пропускному пункту с пригожей луковично-купольной часовенкой и гжельской мозаикой, а к похожей на обглоданный рыбий скелет аскетичной кирхе. Ангелы в травянистого цвета камуфляже и с красными повязками на мускулистых маховых перьевых конечностях, тормознули шустряка:
– Почему без призора? У нас не детский сад!
Антон принялся доказывать: облик школьника обусловлен собственным добровольным выбором, подростковый и остепененный возрасты – в подспудном активе. Но не убедил.
– А вероисповеданье? Где твои ритуальные причиндалы? –привязались дежурные. Шкодливое внешнеизменчивое хамелеонство не юнца, а взрослого мужчины их тем более напрягло. – У каждой конфессии своя калитка.
Внутрь капища, просветили они, как в град Иерусалим, ведут разные врата – с мусульманской (восточной), буддистской (южной), православной (северной) и католической (западной) сторон. Для невоцерковленных и представилей сомнительных сект вход по спецпропускам и через контур металлоискателя.
– Ты, может, лазутчик! Устроишь взрыв, нам вкатят выговор.
Антон взялся их убалтывать. (В студенческие годы ему такое – на экзаменах и с девчонками – неплохо удавалось). Рассказал, как проник ночью на Новодевичье кладбище и увидел: сбросив, будто одеяла, надгробные плиты, восстали из могил знаменитые госдеятели и разбитные актеры и учудили, подставляя друг другу скелетные руки и обтянутые истлевшими одеждами спины, сигать через кирпичную ограду – на травяные газоны футбольной арены «Лужники», чтоб заменить зевотную скуку погоста азартом многотысчяных вопящих трибун. Наиболее отвязные гоняли мяч в центральном круге и штрафных площадках, а неприкаянные загрузились в речные трамвайчики и поплыли по Москва-реке и подземной Неглинке – к скверу между Большим и Малым театрами…
Вахтеры заслушались балладой-баландой и пропустили потешившего их сказителя – без дополнительных буквоедских крючкотворств. Антон вихрем и вприпрыжку, как бегал на уроки, боясь опоздать и прийти в класс после звонка (не то, что размеренные прогулки по небу с дедушкой!) пронесся сквозь мигавшие красными и зелеными лампами турникеты, уснащавшие неприступный (с виду) кордон.
К Площади Правосудия было не протолкнуться: латиносы в сомбреро и полуголые загорелые индейцы в набедренных лоскутах, кварцевых бусах и браслетах, в разноперых головных убранствах (уж не из ангельских ли крыльев надерганных?) братались с чернявоугольноволосыми китайцами. Окажись рядом дедушка и, возможно, объяснил бы, чем вызвано нашествие смуглых парий. Но, скорее, – по заведенной привычке – он бы опять отшвельботился.
От скопления могикан и мао-цзедунцев отшмыгнул к Антону европезированный хлюст в мятых брюках и сандалетах, с зализанной на лысину пегой прядью.
– Если забыли... Я – неудачник, негодяй… – Коротышка поддернул штаны и шумно высморкался в отглаженный клетчатый платок. – Племя майя исчезло, потому что обрекало на заклание себеподобных двуногих. И, естественно, четвероногих. Боги хороши, если не требуют кровавых жертв…
Испытывая сковывающую виноватость перед кривлякой, Антон улыбнулся:
– Я помню вас.
Но, вместо благодарности за памятливость, огреб нагоняй:
– Ох, и достанется вам! Без опекунов здесь находиться не положено! Ну, да раз отважились… Так и быть. Отведу. – Изобразив подобие реверанса, клоун ухватил нарушителя (выходит, общеизвестных предписаний) под локоть и повлек – в музейную тишь трущобно-респектабельного неширокого пешеходного бродвейчика: здешние фасады представляли собой репродукции гравюр фламандских мастеров. Поводырь стрекотал:
– Владимир Борисович Фредерикс коллекционировал античные монеты и картины голландских и итальянских живописцев, преображение аварийных зданий достигнуто вмонтированием монет и полотен в стены…
В разжиженной нестолпотворенности, наставшей после площадного грая, Антон колебался: не уконтрапупить ли неумолкайку – чтоб не лез с нравоучениями? Однако предпочел не возбухать, чувствуя: свершается долгожданное, неосторожная выходка может сорвать несанкционированную вылазку…
– На дедушку не гневайтесь, – адвокатствовал косвенный и невольный ее соучастник. – Он готовит вас к непростому. Брошка и кольцо Евдошечки затребованы в Судебную Палату – в качестве вещдоков. Улики по делу мошенника Хейфеца утрачены. – И, грамофонной иглой перескакивая в другую звуковую бороздку, в другой регистр (первопрокручиваемой или до хрипа запиленной и заезженной?) пластинки: – Молодость устремлена вперед, ей не на что оглядываться. У старости нет будущего, потому смотрит вспять. Праведникам приятно на исходе лет возвращаться к лучшему. Извергам аукается каждый заусенец. Фредерикс воссоздал в архитектурных формах ярчайшие мгновения своей плачевно завершившейся судьбы.
О Константине Петровиче Победоносцеве Явился-не-Запылился сообщил: обер-прокурор, оскорбившись небесным неуважением, безобразничает – срезает пуговицы с пиджаков у играющих на московских бульварах блиц-турниры пенсионеров.
– А еще крадет шахматных коней и ферзей. И ведь был на хорошем счету, назначили казначеем Надоблачной Кассы Взаимопомощи, – охмурял Антона прилипчивый провожатый.
Скученность хижин и дворцов сменилась покосившимися сарайчиками. Распахнулась даль с вплавленным в нее похожим на скрипичный ключ маячком мельницы.
– Дальше пойдете сами, – напутствовал словоохотец оробевшего попутчика. И крутанулся, пытаясь щелкнуть каблуками, что едва не привело к падению: Явился-не-Запылился утратил равновесие, комично взмахнул руками и чуть не шлепнулся. Антон успел помочь ему удержаться на ногах… Смешно подпрыгивая, суетливец засеменил прочь.
Антон двинулся по усыпанной искрошенными ракушками тропинке к петлявшей меж глинистыми берегами речушке. И угодил в белесый туман. Оглянулся беспомощно. Но Явился-не-Запылился и след простыл.
Легкий шорох колыхавщихся стеблей оплетал певучестью. Один из голосов почудился знакомым:
– Вызволи меня!
Ковыльная иссохшая былинка предстала Ганной, домработницей Сердечкиных, соседкой Антона по коммунальной квартире в Неопалимовском.
– Я знаю, за что мне это. За то, что убила ребеночка от нелюбимого Фрица…
Вслед зашелестело множество стеблей:
– И нам, и нам не откажи! Разыщи наших нерожденных деток!
Прозрачные пальцы тянулись к Антону и силились наполниться циркулирующим соком, но ни один колосок не налился спелостью. Ганна сказала:
– Ты в Долине Бесплодных Колосьев, куда ссылают бездетных женщин и матерей, убивших своих детей… Нас некому помянуть. Если бы за меня помолился нерожденный мною сынок… Найди моего сынка… А я подсоблю найти твоих папу и маму.
– Я помолюсь за вас, – обещал Антон. – Как молюсь о Панюшкине, Тарахтуне, Сердечкине…
И покинул мглистую делянку. Его притягивало хлипкое деревянное строение, серебрившееся на далеком предгрозовом горизонте. Антон догадывался: давным-давно возле прибрежной тинной заводи Пинхас дал клятву вступить в спор с противившимися обстоятельствами и бесповоротно следовал принятому выбору. От решения и решимости Пинхаса зависело рождение Лии, мамы Антона, и – стало быть – появление на свет самого Антона...
Мельница, возле которой завязалась будущность, натруженно кряхтела, жернова облепил слой высохшего ила, шлепавшие по воде лопасти износились. Текучее время смешивалось с текущей водой, мельницу теснила похожая на вертикально поставленную фортепьянную клавиатуру бетонная плотина. Рыбы толклись перед каменной преградой, не позволявшей попасть к нерестилищу. Для рыб был вырыт обводной канал, они могли (если бы были наделены человеческой смекалкой) обплыть заслон по искусственной протоке, но этот путь не значился в памяти, унаследованной от рыбьих предтеч, люди переоценили сообразительность чешуйчатых созданий – в отчаянье бившихся о шершавую стену переполненными икрой и молокой боками и истрепывающих плавники до лохмотьев.
Осока, камыши с мохнатыми эскимо на длинных зеленых стеблях, стремнина, водомеры, увиденные много лет назад глазами Пинхаса, обретали осязаемость (как и подремывание дедушки Петра – в вагоне поезда, направлявшегося в Варшаву), выбеленное дождями и солнцем мельничное колесо разрасталось до размеров «чертова» аттракциона венского парка Пратер...
Смеркалось. Пора было возвращаться на площадь Правосудия.
Выбираясь из чавкающей болотины, Антон очутился посреди лежбища поблескивающих плоских валунов. Омываемые морскими валами, они походили на тюленей. На их спинах разложили ласты и подводные маски и готовились к погружению в бушующие волны мужчина и женщина.
– Я заплутал, – обратился к ним Антон.
– Только что отсюда ушла твоя знакомая… Она тоскует по одноногому Федору, – поведал аквалангист.
– У нее украли крестик, – добавила женщина.
– Здесь была Евфросинья? – у Антона подкосились ноги. И одновременно прихлынули силы. – Я сумею ее догнать?
– Если поторопишься, – указали направление поиска аквалангисты.
Антон шагал семимильно. Синели, упираясь вершинами в небо, горы. Качали верхушками, словно головами, изумрудные ели. Самую длинную украшали новогодние игрушки, потерянные Антоном на перевале Казанлык. Эти сувениры он купил в столице Болгарии Софии для друзей – Илюши и Володи.
Кружились снежинки, горные перепутья подернулись инеем. За барханами сугробов открылось поле, утыканное ржавыми чугунными столбами. К щетинисто торчащим перпендикулярам грудились – в нелепых, раскоряченных позах – человеческие фигуры. Подойдя ближе, Антон увидел: высунутые языки облепивших, как мухи липучую ленту, истязуемых приморожены к металлу. Стоило шевельнуться, чтобы отъедениться от столба – и отрывались кровоточащие слизистые куски. Подле притороченных к одной из ржавых колонн гофмаршала Бенкендорфа, начальника царской канцелярии Мосолова, главы охраны царя Спиридовича, дворцового коменданта Дедюлина хлопотал бородатый ординарец Николая Второго Пилипенко и поливал их примерзшие нежные жала кипятком из чайника. Это доставляло языкатым хулителями царской четы новые мучения.
В сугробах копошился обмороженный опарыш: нахлобученные кивера, драные мундиры… Лишенные гангренозных лапищ мародеры лбами и подбородками перекатывали мешки, битком набитые серебряными и золотыми церковными ризами. В унисон с обмотанными павло-посадскими платками солдатами в касках со свастикой они вопили (по-немецки и по-французски):
– Выручи!
Антон дышал на закоченелые руки. Холод не удавалось перешибить даже самовздрючивающими подхлестываниями: надо немедленно оприходовать поступающие просьбы (иначе забудутся)!
Запыхавшийся дедушка склонился над осевшим в пуховую мягкость внуком.
– Кто надоумил тебя прийти сюда? Ты знаешь, куда забрел?
Антон не мог вымолвить ни звука, руки и ноги леденели, мысли не ворочались.
– Где мама? – не размежая век, бормотал он.
– Нетерпеливостью испортишь все! – докатывалось до него сквозь снежную вату.
В согревающих родственных объятьях Антон оттаял.
Раскинувшаяся перед ним заснеженная равнина походила на гигантскую кухонную плиту: лепестково синели газовые конфорки, полыхали поленницы, покачивались закопченные и новехонькие, малые и огромные, на кронштейнах и массивных цепях подвешенные котлы. В разнокалиберных кастрюлях, алюминиевых корытах, эмалированных тазах и ваннах (некоторые были снабжены плотно прилегавшими крышками) варились, всплывали вверх животами и вновь тонули облепленные бурлящими пузырями, ошпаренные до красноты тела: и отдельные, и слипшиеся (как пельмени), а то и сцепленные в сарделечные и сосисочные гирлянды; на сковородах и противнях корчились и шкворчали расползшимися котлетами и подтянувшими колени к подбородку тефтелями поджаривающиеся волосатые сгустки; порции дебелых и румяных плюшек, сдоб и печений протяжно стенали с прокаленных плоскостей о своих ожоговых мытарствах.
– Долина Котлов, – дал обозначение бескрайнему дымяшемуся пейзажу дедушка. – Гастрономические аллюзии неслучайны: отправленные сюда чревоугодники пировали и обжирались, хотя для поддержания жизненных сил достаточно нескольких калорий, несъеденное выбрасывали, в то время как голодающие умирали от дистрофии. Выбрасывать еду – тяжелейший проступок.
Антон продрал веки:
– Я полагал: сковороды и котлы – выдумка. Чтоб напугать. Что они – принадлежность ада...
Дедушкино признание («залп» – образно выразились бы преподаватели военной кафедры МГУ, обучение у которых далось Антону не без сложностей) без преувеличения подкосило:
– Если думаешь: рай и ад разлинованы, как строчки в школьной тетрадке, заблуждаешься. Ад уже не помещается под землей и арендует часть райских владений. Не хватает истопников и вулканических мощностей. А на небе – молнии для возжигания, и не нужно спичек, солнечные батареи для кипячения…
– Преисподняя и рай – симбиоз? – Антон не верил.
– На паях, – подтвердил дедушка. – Взаимополезное взаимопроникновение. И практичное разделение труда. Господь не хочет мучительств. Он всех готов простить. Сатана вместе с добровольно ассистирующими ему херувимами – наказывает. В том числе котлами. Учтено многообразие оттенков возмездия...
Дедушка умолк – вероятно, прикидывая: допустимо ли расширить границы познаний внука – необратимо? И склонился к нескрытничанью:
– Земная твердь – узенькая талия-перемычка песочных часов меж буранным небом и статичным тартаром: в верхний раструб устремляются освободившиеся души, в нижний сыплются отыгранные шахматные фигуры. Данте изобразил ад в виде кратера, последующие поэты рисовали гористый, ярусный, многослойный рай. Но их фантазии – производное людской мечтательности, как и упование на небесную химчистку, где грехи отмоют (может, еще и с помощью пятновыводителей и пылесосов?)… Подонки – обрати внимание на это словечко и соотнеси его с раскаленными днищами котлов, присуждаются к куда большим невыносимостям, чем ожоги пятой и шестой степеней. Рай недаром утопает в садах: ветви скрывают от праведников земную юдоль. В аду растительность отсутствует, и грешники созерцают, как расплачиваются дети и внуки за грехи предков.
Антон возразил:
– Не знать о судьбе близких, не видеть тех, кто дорог – плохо!
Дедушка был настроен непрепирательски:
– Истинная мука – наблюдать: выбирают ложные пути и погибают те, кто дороже всех! Не иметь возможности исправить их ошибки… Не противодействовать терзаниям собственных детей, престарелых родителей, братьев и сестер... Матерям – видеть кончину сыновей. Любящим отцам – насилие над дочерьми. Видеть и… бездействовать! Или того хуже – благоденствовать. Собственно, все здесь только и хлопочут о праве вмешаться, подсказать…
Дедушкино певучее райско-адское бытоописательство прервал выкувырнувшийся из прокопченного чугунка (в таких, только гораздо меньшего объема, Антон варил с папой на рыбалке уху) – распаренный, похожий на поданного в ресторане лобстера с длиннющими усищами ухарь, который вцепился распухшими клешнями в край раскаленного резервуара. Змеиное шипение пролившейся на головни воды звуково, как нельзя удачнее, иллюстрировало состояние ужаленности, в коем пребывал усач.
– Антоша! – взголосил он. С его пшенично-светлых бакенбардов струились по небритым щекам курившиеся паровозным паром потоки кипятка, изо рта торчала намертво приклеившаяся к верхней губе папироса, нос картошечно шелушился, сиреневые глаза лезли из орбит (и вскарабкались-таки под козырек прически). Обжигаясь о металл и собиря лоб складками, лобстер ныл: – Я – муж Евфросиньи! Борис!
Антон узнал Бориса, хотя сбежавший от Евфросиньи сожитель растолстел и отпустил челочку.
– Помнишь, мы схрумкали уворованный у Сердечкиных соленый огурец? Этот огурчик мне поперек горла: припаяли хищение! – сипел Борис. – Но я закусывал им портвейн «777», а число зверя – 666. Значит, попрал антихриста!
Антон вопросительно посмотрел на дедушку:
– Конечно, надо помочь твоему знакомому, хотя антихрист ни при чем. – Дедушка не колебался, если требовалось выручить.
Борис просиял и расправил облупленные плечи.
Антон сказал:
– У Евфросиньи украли крестик. Ты в курсе этой пропажи?
Борис не желал говорить о бывшей гражданской жене:
– Не интересуюсь… Спуталась с одноногим… Со мной, двуногим, ей плохо было…
– Тут должен кипятиться Троцкий… Об этом обмолвился в зале суда Панюшкин, – вспомнил Антон
Борис махнул куском сползшей с растрескавшейся руки кожи:
– С ним тоже не знаюсь. Я – курносый, он – горбоносый! У него огромные связи и знакомства. А у меня – только ты. Его адрес: привелигированный нагревательный агрегат 28/4. Емкость №5.
Льва Давидовича Антон и дедушка застали плавающим брассом в просторной персонально отстоявшей от прочих непрезентабельных резервуаров фарфоровой чаше. Лев Давидович отфыркивался и отплевывался, на Антона взглянул пренебрежительно сквозь поблескивающее пенсне. Антон заговорил, преодолевая неприязнь и мелко задрожав: вернулся непобежденный снежный озноб (мама, когда от холода зуб на зуб не попадал, говорила: «торгуешь дрыжжиками»):
– Ревекка – моя бабушка. Она приходит проведать вас?
При упоминании о Ревекке Троцкий вбуравился в Антона пронзительными серыми глазами.
– Вот ты какой, – сказал он, пристрастно изучая взрослого мальчика. – А мог быть другим. Похожим на меня.
Антон сделал вид, что не расслышал замечания.
– Где можно ее найти? – повторил он.
Троцкий перестал водить ладонями в воде, встал на дно чаши, подбоченился, поигрывая дряблой мускулатурой.
– Она давно не появлялась. – И неумышленно или намеренно отвлекся, окликнул проходившего мимо грязновато-неопрятного кочегара с ухватом и взъерошенно-засаленными крыльями, в ушанке и драной телогрейке. – Будешь работать или баклуши бить? Знаешь, какую температуру надо поддерживать в моем водоеме? – Истопник вытянулся по струночке, а революционер его распекал: – У меня больная печень. И незаживающая рана. – Лев Давидович картинно продемонстрировал нерадивцу, а заодно Антону и дедушке глубокую рваную борозду, оставленную ледорубом на затылке. – Нарзан пора сменить. Выдохся. Пузырьков не осталось.
Ангел смотрел вбок и норовил улизнуть. Антон проявил настойчивость:
– К вашему котлу приписан некто Панюшкин.
Троцкий ответил отрывисто и оскорбленно, видимо, соседство с Панюшкиным унижало его:
– Панюшкин кипятится с 17.00 до 19.40. И совсем в другом растворе. Обычная поваренная соль. Противно купаться после него. К счастью, мы нечасто совпадаем. Я бываю по четвергам. – И погрозил кулаком вслед припустившему прочь служителю: – Усиль подогрев! Помнишь, какие мне полагаются дрова? Сандаловые! Простужусь – ответишь! – Он мельком, скользяще проявил вежливость к посетителям: – В целом водные процедуры на свежем воздухе полезны. Контраст подогретого нарзана и морозца бодрит.
Дед и внук (тоже из вежливости) дождались, пока подчиненный сварливому вождю трудяга притащил на закорках вязанку сандалового хвороста, и покинули обнесенную колючей проволокой примусно чадящую долину. Дедушка говорил:
– Подальше от смога и заморозков! В сторону Весны. В насморочной зоне бросает то в жар, то в холод. Ее потому и уступили адской колонии. Не таи зла на Троцкого. Революционеры всегда всем недовольны. Такой склад характера, вот и устраивают бучи.
Антон не преминул воспользоваться дедушкиной покладистостью:
– Чем регламентированы условия варки и жарки? Почему одни – на сковородах, другие – в котлах? Почему под некоторыми котлами костры бушуют, а под другими еле теплятся?
– На малом огне благоденствуют льготники, причинявшие вред бессознательно, пламя можно раздуть и уменьшить – в зависимости от степени провинности. Кроме того не все горелки-конфорки исправны…
Строительная площадка, мимо которой они шагали, кишела вспотевшими от колготни понукаемыми хвостатыми надзирателями подневольцами: они возводили стены, водружали на каркасы куполов листы гладкого золота.
– Разрушали храмы и монастыри… Старенькие дивные особнячки замещали бетонным новоделом, уникальные дворянские усадьбы застраивали коттеджами. Теперь восстанавливают, чтоб в целости и сохранности передать в Копилку Господа… – Дедушка без осуждения взирал на копошащихся человеко-мурашей. – Не самые отпетые создания, таким едино: строить или крушить.
Антон усомнился:
– Разве можно? Не понимать? Что уродливо, что красиво?
– Им приказали, они исполнили. С приказывающих другой спрос. И другое возмездие. Ответят и за то, что перегораживают реки убивающими рыбу плотинами…
Навстречу ковыляли слепцы, диоптрические стекла в оправах очков были забельмованы медалями и монетами.
– Жизнь через призму выгоды и карьеры? – сделал напрашивавшийся вывод Антон.
Незрячие наградоносцы, услышав столь неуважительный отзыв, полезли драться. Размахивали загребущими ногтями, сшибали друг у друга с переносиц показные знаки отличия (и на ощупь искали, находили или не находили упавшее), получали тумаки, хромали и падали.
– Цирк, – поморщился дедушка. – В обиходе именуемый Парком увеселительных аллегорий. Здесь, как в комнате смеха, все наперекосяк… – Дедушка не позволил Антону приблизиться к дырявому батуту, на котором челночно подпрыгивали пытавшиеся скакнуть один выше другого человекоподобные кузнечики. – Эти никогда не садились в последние ряды, стремились в президиум… – Гроздь акробатов, визжа, провалилась сквозь прореху в батуте в пропасть, несколькие сумевшие зацепиться за скалистые пики, были расклеваны большеклювыми птицами («Порода орлов, выдиравших печень у Прометея», – дал справку дедушка). Новые взобравшиеся на батут несчастные принялись безостановочно летать вверх-вниз.
В грязевых канавах-кюветах, проложенных потоками слякотных селей, под открытым небом на каменных скамьях мокли в струях дождя мужчины и женщины, а хвостатые банщики охаживали их вениками зазубренных стальных прутьев, драили наждаком и металлическими мочалками.
– Отмывают – аналогично тому, как они отстирывали перепачканные бесчестием денежки… Обманом отнимали у стариков и алкоголиков квартиры, выгоняли ставших бездомными на улицу, спаивали, убивали… Ничто не остается безнаказанным… – Дедушка, долго крепившийся и не позволявший себе впасть в теоретизирование, отчалил-таки в любезное его натуре плавание: – Что в человечьем естестве поддается коррекции, а что непобедимо? По каким параметрам и градациям оценивать плохие и хорошие присущести? Должны ли подневольцы бессознательного преступного импульса отвечать за неистребимость своей биологической доминанты? Тончайшие исследования не могут подтвердить или опровергнуть: наползновение затмения на отдельного человека или целый народ – болезнь или потворство низменной прихоти?
Из выгребной ямы вылез на четвереньках красавец-щеголь в мундире с галунами и в забрызганных грязью сапогах. Белые лосины протерлись на коленях. Хвостик бесенка, обронившего в лужу перед офицером маленький овальный портрет женщины, был изогнут долларовым знаком S. Военный губами извлек камею из жижи.
– Ползком, ползком! – командовал бесенок и гнал истязуемого к следующей луже. Опустил портретик уже в нее. Красавец засучил рукава кителя. Но бесенок приказал погрузить в лужу лицо и шарить по дну носом – будто щупом.
– Вот чем обрачивается глумление, – сказал дедушка Антону. И позвал: – Ротмистр Малашенко, если не ошибаюсь?
Еле влачивший свои дородные теласа чумазый военный смотрел исподлобья. Губы презрительно выпятились.
– Жаль я тебя тогда не придушил…
Обращался к Антону? Но Антон его впервые видел. Неужели адресовался (столь непочтительно!) к великовозрастному старцу?
– Мой хороший знакомый Франц Кафка, имя этого литератора тебе, конечно, известно, – невозмутимо продолжил, удаляясь от красавца с галунами, дедушка, – утверждает: в каждом человеке, стоит лишь копнуть или учинить суд и следствие, найдется вина.
Не дав дедушке опомниться (иначе поток пустоизвержений было не прервать), Антон бросил в костерок разгоравшегося красноречия сыроватую, прибившую пламя корягу:
– Где мама?
Дедушка запнулся. Он был застигнут (чего и добивался Антон) врасплох.
– Видишь ли…
– Почему не отведешь меня к ней? – Антон чувствовал, что подгадал удачный миг. Хотя собственная капризничающая интонация резала слух, ослаблять вопросительную атаку он не намеревался: – Я имею право с ней увидеться?
– Мой реферат назывался: «Главенство на Небесах», – без нажима твердо, с позиций возрастного первенства, восстановил дистанцию меж собой и внуком дедушка. – Опубликовать его в первоначальном виде не удалось. Обвыкнувшись в заоблачности, я нашел архипелаг, куда сосланы Перун, Зевс, Гефест, Аполлон… – Опять он переупрямливал, втягивал в заунывность, не позволял перечить: – Структура райского и адского размежевания подчинена национальным приоритетам. Есть русская вотчина и греческая община, чешская и арабская провинции, англоязычная материковая и островная части и континент придуманных, но не попавших на страницы книг литературных героев. Лично меня устраивает, что католики, протестанты и адвентисты седьмого дня обособлены: я застрахован от внезапной встречи с Сюзи…
– Присказки! Я не о Гефесте! – Антон еле сдерживался, чтоб не нагрубить. – Меканье-беканье. Трепалогия! Какая Сюзи!? Зачем – об адвентистах? – Антон жаждал ясности: – В какой точке небосклона мы находимся? Насколько далек рай?
– Говоришь об окраинном или о серединном рае? – вопрос поставил в тупик.
– Есть еще и центральный?
– А как же! И промежуточный. Его ошибочно называют чистилищем.
Нет, дедушка не вредничал. А был не способен преодолеть собственную беспонятливость – одолевшую его еще в предсмертные годы (и, значит, продолжавшую резонировать на околозвездной высоте). Однако, читая мысли внука, опровергал диагноз:
– Деменция ни при чем. О Сюзи узнаешь в положенное время. И об окраинном и серединном рае. – По глинистой слизи он вел Антона к топрщившемуся бревнами и балками неопрятному сооружению. Взлохмаченному вигваму? Ощетинившемуся чуму?
Внутри теплицы, в несимметричных, сколоченных из неструганных досок ящиках, шевелились сради столярных стружек обтянутые шерстяным ворсом коконы.
Дедушка, склонившись над огромными сотами, будто археологической кисточкой, расчищал-откапывал-эксгумировал:
– Инкубатор. Пантеон. Здесь дозревают, готовясь к новым воплощениям, бессмертные души.
Антон, минуту назад клокотавший нетерпением достичь победного рубежа и ворваться в обороняемую засекреченность, разом присмирел. Он страшился услышать: «Мама в одном из коробов».
Громыхала крыша – ветер пытался сорвать кровельное железо, наживленное на игольчатую шевелюру сараюги-дикообраза. Подрагивали-ворочались спеленутые, как фарфоровая посуда при транспортировке, гусеницы-личинки.
Дедушка, сгорбившись, дряхлел на глазах.
– Те, кому причитается бессмертие, обязаны забыть себя прежних, какими привыкли быть… Не заслужившие вечной жизни идут в распыл. Бывает, им позволяют проститься с близкими. А бывает: обрекают на безутешное сожаление о недостаточной любви.
Антон ждал – приговора – о маме! – и запоздало сожалел: не надо было настаивать, наседать, теребить. Дедушка специально дозировал, притуплял кинжальность жутких человеко-шелкопрядских и человеко-жужелицких финалов.
– Долгие годы ищу Аню, – упавшим голосом жаловался дедушка. – Худо, если моя жена угодила в такую паутину. Значит: выветрилось все. Мы никогда с ней больше ни о чем не поговорим.
О маме он не обмолвился.
Страх – легочно-межреберный, как невралгия или удар в солнечное сплетение – постепенно изглаживался. Антон выдавливал из диафрагмального нарыва последний болезненный воздух. Будь мама в парнике, дедушка не утаил бы. А бабушку они найдут. И вызволят – хоть из ощетиненного курятника, хоть из похожего на муравьиную кучу или бобровый домик склепа.
– Все же это лучше, чем котел и сковорода! – окончательно осмелел Антон. В нем крепла уверенность благополучного исхода из инкубатора. – Лучше полеживать в ящике Пандоры, как в гнезде, чем в кипятке. Хотя помещения могли быть комфортнее. Где все же мама?
– Рубашка, – будто на заиндевелое стекло выдохнул дедушка.
– Рубашка?
– Ну, да. Рубашка. Ты ведь тоже о ней подумал.
– Я не думал о ней!
– Думал! И не раз! – Тень неотвратимости легла на вивариумные стены и окуколивающие отстойники-отеки, тяжело гремя виляющей колодезной цепью, ухнуло в сырую гниловатую глубину ведро, полное бликующих надежд, и опрокинулось разбегающимися радужными брызгами…
Антон форсированно рассмеялся.
– Рубашка – ерунда! Избытком выпавших лишений мама выстрадала райское блаженство!
Дедушка остался неумолим:
– Семья, у которой слямзили, крайне нуждалась.
То, что дедушка досконально наторел в обстоятельствах труднейшего периода жизни мамы – вот и рубил с плеча – говорило, напротив, в пользу маминой невиновности (и сулило быстрое ее оправдание): арбитры не вдаются в детали, если отсутствует малейшая возможность оступившемуся помочь, маму, конечно, простят, да и не за что ее карать: не могла же она не позаботиться о любимом сыночке – присутствуй дедушка при инциденте лично, и убедился бы: мама иначе поступить не могла.
Утром ковбойка, единственная истрепанная ковбойка Антона, лопнула на плече. Зашить прореху не удалось: изношенный материал расползался под иглой – в чем же было идти в школу? Пододеть рванину под китель? Но голое тело просвечивало сквозь истертый кое-где до прозрачности верхний прикид. В классе бы засмеяли. Не пойти на занятия? Но конец четверти, подведение итогов, контрольная. Мама сказала: «Сейчас». И ушла. И принесла измятую, не новую, коротковатую, Антону она едва достала до пояса. Да, маме пришлось сорвать рубашку, как цветок с клумбы, с натянутой меж деревьев веревки в соседнем дворе. Но кража была совершена, потому что маму не брали на работу, еду не на что было купить, попросить в долг не у кого… А контрольную Антон написал на «пять» – свою службу рубашка сослужила. Мама заплакала, когда Антон ей сообщил о «пятерке». Дедушка судил односторонне, казуистически. А следовало подходить к рассмотрению не юриспруденчески, а по совести.
–Это не воровство!
– А что же?
– Мама впала в отчаяние! За подобный пустяк не отлучают от рая!
– Еще как! Уже отлучили. – Дедушка простер четырехпалую (в наличии имелся не квинтет, а квартет пальцев, поэтому Антон подыскал, вернее, оно само подвернулось, более правильное, соответствующее наличной данности определение) «изуродованность» и промыл в облачном подножии ужасного инкубатора окошечко, открывшее вид на вывешенное после постирушки белье. Грозным земным прокурором-Зевсом дедушка обличил: – Воровать нельзя! Ни при каких обстоятельствах!
Антона не тронул этот (как на майском параде бронетехники) танковый рокот, ни трибунный (на стороннего зрителя, а не на внука рассчитанный) пафос добряка, тщившегося предстать библейским судией и громовержцем.
– Мы сможем маму спасти? – утвердительно спросил Антон, когда вслед за дедушкой выбрался из вигвамо-чума.
Дедушка сухо бросил:
– Я недаром упомянул о мусульманском, католическом, иудейском анклавах. Мама платится еще и за твое посягательство на чужое религиозное принадлежание! Ты настоял, чтобы маму отпевали… То есть – опять подворовал!
Опровергнуть эту претензию и вовсе не составляло труда: после маминой смерти Антон побывал во множестве церквей – и ни в одной не согласились отслужить сорокауст. Лишь благообразный старичок-настоятель в окраинном храме сжалился, но предварительно осведомился: «Сам-то ты крещен?». Антон сослался на то, что слышал в детстве. Теперь он это предание (забывчивому дедушке), торжествуя, повторил:
– Когда меня, новорожденного, принесли из Грауэрмана…
Дедушка не отрицал:
– Я имел право окрестить. И совершил обряд. Я окончил семинарию, бывал в Ватикане, познакомился с будущим Папой Иоанном Павлом в Кракове и играл с ним в футбол. Он не был формалистом. И я не формалист. Нет разницы: батюшка в храме или сын регента кремлевского Успенского собора окунает в купель! Но твоя мама…
Антон продолжил терпеливо повествовать: старенький священник велел Антону окреститься заново. «Мы должны исключить малейшее сомнение». Но Антон к нему больше не пошел – через год, по совету маминой сестры Клары, обратился в синагогу. Там, ни о чем не расспрашивая, сутулый человек в домашнем бежевом (с большим жирным пятном) жилете и похожей на тюбетейку кипе, в треснутых и скленных пластырем очках, записал на картонном квадратике даты рождения и кончины и обещал исполнить требу. Антона интересовало: как часто будет повторяться поминовение – еженедельно или ежемесячно? Сутулый (оказалось: не ребе и не служка, а сотрудник книгохранилища) удивленно вскинул брови: «Считаете ее великой грешницей?» Антон смутился: «Вовсе нет!». Библиотекарь унял его беспокойство: «Нет оснований молиться о ее упокоении беспрерывно»…
– В православном храме маме отпустили грехи на православный манер, в синагоге – согласно иудейским канонам, – горячился Антон. – Я сделал правильно. Молитвы из храмов стекаются к Единому Богу.
– Изложишь доводы на повторном процессе. Если удастся добиться новых слушаний… – Дедушка опять бекал-мекал, мучительно долго (будто зуб без анестезии) тянул с произнесением следующей ужасающести. Нервы Антона готовы были лопнуть, как дырявый адский батут. – Не хотел посвящать тебя до поры. О твоем папе… Если не успеешь вознести восемьсот пятьдесят три тысячи семнадцать молитв… Он превратится в домового.
Антона накрыло-окатило предчувствие безысходности.
– В домового? Что это значит?
– Домовые прислуживают в тех домах, куда их поселяют. Впадают в спячку, молодеют, превращаются в юношей, в младенцев, исчезают бесследно и без права возобновления жизни. Молитвы, записанные мною в тетрадочке, по минуточке, по секундочке отыграют папе утрачиваемый возраст…
Глубоким вечером они вернулись на площадь Правосудия. Здания Прокуратуры, Клуба Присяжных Заседателей, Сектора Надзора, Комиссии Подписки о Невыезде и Кассационной Палаты сияли иллюминацией. Рикши в соломенных конусообразных панамах привозили группы веселившихся ацтеков, ассирийцев, курдов. Раззадорившиеся буяны крутились на весах, как на турнике и качелях, выковыривали стрелки и шкалы, предназначенные не для игр, а для определения тяжести грехов, задирали пытавшихся сделать шалунам замечание или просто идущих мимо прохожих.
– Сегодня праздник нацбольшинств: декада отдохновения от Разлитя Желчи, – откомментироваал происходящее дедушка, – Предстоят карнавал и салют. Под эту гребенку – можно вытворять невесть что…
Антон прислонился к нагретой солнцем и не успевшей остыть колонне. «Хорошо, что она – не чугунная и не замороженная», – думал он и подытоживал: приключение принесло множество разочарований, но теснее сблизило с Небесностью.
– Я обещал молиться за Ганну. И ее ребеночка, – рассказал он дедушке. – За тех, кто мается на поле Бесплодных Колосьев. За Панюшкина. За Тарахтуна. За Сердечкина. Поминаю Евфросинью и Евдошечку. Буду просить Господа о бабушке Ане, воришке Борисе. Но разве могу спасти всех и всюду успеть? Можно не молиться за тех, с примороженными языками?
Дедушка не поблажничал:
– Нельзя обделять никого.
Под одобрительные кивки дедушки Антон помолился – за папу, маму, Панюшкина, бабушку Аню, за бесплодные колосья и Ганну, Бенкендорфа, Дедюлина и других злоязычников примороженных к чугунунным столбам, за революционера Троцкого, за французских мародеров, позарившихся на кремлевские святыни, за немецких захватчиков, посягнувших на чужие земли и очутившихся в тисках русской зимы...
– Мучает, – сказал Антон, – что папа умер молодым. Не успел посмотреть фильмы Бертолуччи и Копполы, прочитать Джойса и Пруста… Но ведь это не повод не пропускать его в нирвану?
– Во времена моего папы ни Пруст, ни Джойс еще не брались за перо, – ответил дедушка. – А кино только-только входило в обиход. Совершенствоваться можно и должно на образцах, которые доступны. Ход твоих рассуждений правилен: моему папе – твоему прадедушке, и твоему папе – моему сыну, не мешало бы ознакомиться с «Улиссом» Джойса и с «Кентавром» Апдайка, уж не говорю о саге Пруста. Лишь склонные к чтению и философскому созерцанию, к восприятию музыки и живописи допускаются к продолжению бытия. Воинственная необразованность – сужает горизонты. Разве можно предстать перед Всевышним, не ознакомившись с акафистом митрополита Трифона «Слава Богу за все»? Это все равно, что прийти в школу с невыученным уроком! Тем, кто доказал приверженность к самосовершенствованию, предоставляется право не исчезнуть и не развеяться, а продолжить видеть, чувствовать, хлопотать...
Дедушка позевывал:
– Я не спал несколько ночей. Сон сморил меня, вот я и проворонил твое авантюрное вторжение. Всегдашние провожатые оберегали мою отрешенность, поэтому не увидели тебя.
Антон сомкнул губы, чтоб не проболтаться о смешном поддергивателе щтанов по имени Явился-не-Запылился, который выступил пособником авантюры.
– Мы спасем папу, маму, бабушку? – хотел заручиться дедушкиной уверенностью он.
– Видишь ли… – Дедушка отвернулся, в стеклах его очков отразилась искра взорвавшейся над площадью петарды. – Прежде найди на антресоли тетрадочку с молитвами, молитвы отделят подлинно близких тебе людей от прирожденных убийц… Понадобятся и другие бумаги, письма. Без них не найти мою Аню…
Два недвижно буксовавших в вышине монаха охраняли воодушевленцев. Когда те покинули площадь, крылатые стражи расстелили перед идущими шлейф гладких камешков, которые мягко пружинили – фортепьянно-компьютерно-аккордеонными клавишами-кнопочками, если на них наступали.
КОВАРНЫЙ ПЛАН СИМАНОВИЧА
Окольными путями, со множеством пересадок, Янкель Кацман добирался из радушно-хлебосольного Златополя в промозглый неприветливый Петербург, а, вернувшись, рассказывал отцу:
– Я поступал по-твоему, преувеличивал веселье, но не всегда это получалось!
Спрыгнув близ Варшавского вокзала с межвагонной перемычки (на которой проделал последний отрезок пути), Янкель заискивающе улыбался встречным. Он наметил: не тратиться на гостиничный постой и прикорнуть (несмотря на дождь) на парковой лавочке. Но пришлось дать стрекача от полицейскиого (и позабыть о необходимости расточать улыбки): родной городок Янкель покинул, не испросив позволения у околоточного надзирателя Воронихина, за несанкционированную отлучку грозил арест.
Усатый страж догнал, ухватил за пейсу. Вынужденно Янкель раскошелился, иначе оказался бы в кутузке. Зубоскалить со слугой закона он не решился.
Сиротливо позвякивавших в кармане последних грошиков (вытрясена была вся крупнокупюрная наличность) недоставало даже на захудалый бродяжий приют, однако риск быть снова пойманным и брошенным в камеру, заставлял предпринимать обезопашивающие меры и привел в подвальную клоаку с двухярусными койками.
Янкель задобриал космато-бородатого хозяина (в поддевке настолько засаленной, что на ней яичницу можно было жарить) анекдотом из случайно прочитанной, забытой кем-то на скамье в пристанционном буфете газеты и обещал заплатить за ночлег утром (лохматый страхолюд поверил подозрительно легко), а потом до рассвета ворочался и почесывался на несвежем тюфяке, внушая себе: «Почиваю по-королевски!» и приманивая Морфея: «Ну и пышность по случаю моего визита: иллюминация и даже полиция поднята на ноги!». Донимали насекомые, соседи храпели и перхали.
Задремав и пробудившись, Янкель обнаружил: украдена ермолка.
Владелец вонючего притона не расплылся в благодарственной умиленности, когда Янкедь высыпал пригоршню мелочи (и заторопился на улицу – хоть свежего воздуха глотнуть), а вцепился в лапсердачный лацкан:
– Хорош спинжак! И шарфик! А это что на твоей немытой шее? Шестиконечная звездочка? – Эфроим снабдил сына своим медным магендовидом. Его-то и разглядел вымогатель. – Скидовай все! У меня не забалуешь.
Янкель старался не выказать испуг. В голове шумело: «Не успев ничего сделать для Пинхаса, – угодить в каталажку? Быть с позором высланным?».
– Ладно, возьмите в залог жакет. А с шарфом расстаться не могу. Это не шарф, а реликвия. Талес.
Талес пожертвовал уезжавшему смельчаку Шимон. Сказал: «Он тебе подсобит. Его носил мой папа».
– Талес, говоришь? Так ты жид? Я вчера в полутьме не разглядел! Разрешение на пребывание в столице имеешь? По какой надобности прибыл? Уж не бомбу ли привез? – Бородач намотал священную ткань на руку, будто возжу, и притянул Янкеля к себе. – Ваша нация чинит беспорядки. Я б тебя на порог не пустил!
Янкель лихорадочно вспоминал отцовские заповеди: «Не теряйся в суматохе. Не связывайся с дураками. Умей отличить дурня самокритичного от клинического. Не упускай случая подкрепиться».
Покосившись на плесневелый, обкусанный (то ли голодными постояльцами, то ли мышами), валявшийся на не подметенном полу калач, он приободрился:
– Хотелось бы получить чашку кофе. И булочку…
Жлобина не поддался улещиванию:
– Здесь не трактир. И заморского кофея не держим. Но стакан воды налью. От широкой моей души. У православных сейчас пост. Поэтому булочки не будет.
Зачерпнул мятой алюминиевой кружкой из закопченой кострюли воду и наполнил поставленный перед Янкелем захватанный жирными пальцами стакан. Янкель не мог заставить себя притронуться к негигиеничному сосуду.
– Что ж, не пей, – не огорчился ночлежник. – Но заплатить за трапезу придется. Или спинжак для тебя тоже божествен?
Янкель размышлял, стягивая с плеч потрепанный жакет (а что ему оставалось?): «Люди неутомимо ищут смысл или его подобие: «пиджак» – произвольное сочетание букв, а «спинжак» – прикрывает спину»…
Всклокоченный жлоб не удовольствовался «спинжаком», а отнял талес и магендовид:
– Каждый день буду наращивать проценты. Не отдашь должок – пущу твою святую шлею на полотенце, а медную побрякушку в переплавку!
И все же Янкель вздохнул с облегчением, когда вырвался из подземелья. Вдохновляло и то, что под рубахой (благо, ее выжига не содрал!) удалось вынести отлитую кузнецом Эфроимом для подарка Григорию Ефимовичу миниатюрную статуэтку лошади.
Адрес Распутина: «Гороховая улица, 64» – помнился, потому что был проставлен в графе «отправитель» на приходивших в Златополь конвертах. Но как отыскать нужную улицу? Дорогу подсказывали петербуржцы: все ведали, где обитает старец.
Охранники не впустили Янкеля в подъезд:
– Много охочих до Григория Ефимовича!
Он упрашивал, они усмехались. И зырили алчно. В качестве аванса Янкель вручил начальнику стражи свой (увы, пустой) кошелек с изящным выкованным кузнецом Эфроимом замочком. (Ну и жизнь в столице! «Если дальше будут обдирать, в каком виде предстану перед Распутиным? – ужасался Янкель. – Голышом?»). Неохотно ему позволили пройти.
Старца дома не оказалось. Его секретарь Арон Симанович, облаченный в сюртук зеленого (не бильярдного ли?) сукна и черные диагоналевые (но нет, с прямыми отглаженными стрелками) брюки, не позволил переступить порог квартиры и объявил прейскурант: за милостивое разрешение ожидать святого человека на лестничной площадке – пятьсот рублей, за стакан воды (правда, незахватанный, прозрачный) – червонец.
– Чирик, – сказал он по-воробьиному.
Симанович был огненно рыж, из ноздрей торчали золотистые клочки волос. Живот опоясывала тяжелая золотая цепь, массивные перстни окольцовали пальцы кастетом – несколько обручей на каждом.
Увидев крючковатый нос и маслянистые глаза, Янкель возликовал: соплеменник не прогонит, выручит. Забрезжила надежда – средь враждебности найден тот, на кого можно уповать! О Симановиче он был наслышан: ювелир, ростовщик, но, главное – ходатай по делам единоверцев, сумел проникнуть в гущу властного клубка, освоился там и помогает евреям. Фортуна явно поворачивалась улыбчивой стороной.
Симанович лояльность не проявил.
– Нет денег? Могу ссудить. Завтра вернешь шестьсот.
Чем же отличался от обирателя-ночлежника?
Янкель, не могший поверить в продолжавшуюся грабиловку (и уже ощипанный предыдущими обштопывальщиками), сгоряча хотел внести Симановича (персонально!) в список недоброжелателей, нет, гонителей еврейского народа, но ограничился попыткой усовестить:
– Сумасшедшая мзда!
Симанович остался холодно-бесстрастен. Окинув Янкеля пренебрежительным взглядом, велел переодеться:
– Иначе Распутин в твою сторону не посмотрит. Хоть понимаешь, к кому пришел? Тут люди царского звания бывают.
Извлек из валявшегося в прихожей мешка измазанный мелом и клубничным вареньем костюм – якобы принадлежавший его сыну-студенту, и предупредил: столь щедрая услуга – за отдельную плату.
– Одежда волшебная. В ней мой сынок исцелился от пляски святого Витта. Распутин вылечил.
Опасаясь, что сам начнет виттовски дергаться, если напялит липкую хламиду, Янкель возмутился:
– Такую рвань на выброс, а не на парад! Ведь мы одной крови!
Симанович на сближение не подвигся:
– Моя обязанность: Григория Ефимовича в довольстве содержать. А не хватает даже на корм попугайчикам. – И показал висевшую в прихожей клетку, где прыгали галдящие птички. – Прошу немного. Протелишься, выставлю неустойку.
– Надо помогать друг другу! Так учил меня отец! И мудрец Шимон.
При упоминании Шимона Симанович смутился, стушевался. Обрамленные белесыми ресницами воробьиные глазки заморгали часто-часто.
– Знаком с Шимоном? Его авторитет непререкаем. Так и быть, сброшу вполовину. Ты меня разоришь! Попугайчики от голода околеют!
Поняв: петербургские нравы и тарифы неотменимы, Янкель накарябал долговую расписку, переоделся в чужие, не по размеру, одежды и, раздосадованный, чувствуя себя пугалом, вышел проветриться. Внимание сразу приковал украшенный библейскими изваяниями Исаакиевский собор – не в честь ли Исаака, принесенного в жертву Богу столетним Авраамом, поименованный? Значит, наговаривают на царей, виня их в евреенеприязни! Будь предубеждены, и не возвели бы воздающий должное иудейской ветхозаветности храм! «К тому же одного из сыновей Исаака звали Яковом – то есть Янкелем! Как меня... Наверно, сыщется молельня и в честь Якова», – возмечтал Янкель.
Потрясенный наружной и внутренней впечатляющими колоннадами грандиозного архитектурного творения, обогатившись бесценным открытием: фамилия Исаака – Далмацкий (ибо возникло предположение: святилище воздвигнуто еще и в память гениального Исаака Ньютона), Янкель проследовал к монументам Николая Первого и Петра Великого, а затем – к Неве: никогда прежде он не видел столь широко разлившихся рек.
Миновав дом, где умер Петр Чайковский (имя и фамилия опять-таки намекали на еврейское происхождение композитора, хотя краткая мемориальная надпись микшировала национальную принадлежность музыкального собрата маэстро Самуила Горовица), и отметив непозволительную неподкованность копыт всех без исключения скульптурных коней (неприятно царапнувшая недовылепленность, небрежность!), провинциал вернулся на Гороховую и дольше часа топтался, ожидая Григория Ефимовича. Молодечески крепкий и быстрый старец прикатил в машине с громко квакающим клаксоном и выпрыгнул на тротуар – как чертик из шкатулки. В бархатном распахнутом пальто, в красной шелковой косоворотке, подпоясанной золотистым шнуром. Янкель ринулся к Распутину. Охранники отбросили просителя, он закричал: «Я вам кошелек подарил!» и через их головы махал Распутину. Тот приказал холуям расступиться и повел гостя в покои, напоил сладким сбитнем, угостил ежевикой. Симанович нацепил фартук в цветочек и прислуживал: носил на жостовском подносе цукаты и конфеты, сделался медово-приторным, карамельным, хоть чай вприкуску или вприглядку, отщипывая от него по кусочку, пей.
– Знаю, зачем приехал. За тростью Шимона, – вел разговор Распутин. – А еще по поводу продления жизни Толстого, чтоб Лев Николаевич прожил дольше и умер воцерковленным. Утряской женитьбы твоего друга Пинхаса на Ревекке и вовсе с утра до вечера занимаюсь…
Держался он простецки. Лыбился, обнажая черноватые зубы. Велел Симановичу принести счеты. Кидал костяшки туда-сюда:
– Смерть Льва Толстого надо из 1910 года перенести в 1912, а то и 1917-й, а убийство Столыпина из 1911 года ввергнуть в ноябрь 1910-го. Никто и не трехнется, других событий вдоволь. А от перемены слагаемых местами – сумма не изменится! – И пояснил: – Баш на баш поменять местами время Ясной Поляны и станции «Астапово»...
Зазвонил телефон. Симанович взял трубку и почтительно, вибрируя всем телом, поднес ее старцу.
– Вас просит лично государь!
После короткой телефонной беседы Распутин отбыл в Царское Село, а Симанович, дополнив долговое обязательство Янкеля калькуляцией за цукаты и сбитень, открыл приезжему (разинувшему рот и обмершему от невообразимости того, о чем рыжий конфидент Распутина говорил): в глубинах Александровского дворца спрятан тайный злополучный отпрыск Романовых – бычеголовый мальчик.
– Многих этому мычальнику скармливают... Половину долга тебе скощу, если согласишься пойти вместо министра Штюрмера в пасть к Минотавру...
У Янкеля мурашки бегали по спине.
Вечером вернувшийся из дворца Григорий Ефимович пригласил их в ресторан «Медведь» на Большую Конюшенную. Играл румынский оркестр, пели цыгане. Янкель, привыкший к антуражу скромного златопольского шинка (где изредка бывал с отцом), поверить не мог, что в роскошном увеселительном вертепе отсутствуют мезузы и твиллы: обитая бордовым плюшем мебель, столики, накрытые пурпурными скатертями, стены, увешанные фривольными картинами, а извиняюших разгул амулетов нет! Чтобы преодолеть замешательство, Янкель пригубил из налитой Распутиным рюмки. На душе потеплело. Но и после второго и третьего горячительного глотка не забывалось: оставлены в ночлежке талес Шимона и магендовид Эфроима!
Впрочем, рядом с Григорием Ефимовичем заботы не воспринимались непреодолимыми.
– Справлюсь с любыми трудностями, Янкель! Только попроси!
Распутин потчевал Янкеля и Симановича своим любимым блюдом: черными сухарями в забродившем шампанском из шиповника. Зачерпывал пенную тюрю из хрустальной чаши серебряным половником, подчавкивал, утирал намокшие усы салфеткой и рукавом. Янкель, избегая встречаться глазами с Симановичем (тот предупредил: за выполнение каждой просьбы Распутин берет миллион, а Симановичу за посредничество полагается 10%), все же выдавил:
– Шимон просит, чтоб его дочь Ханна родила вместо двух мальчиков девочку. Он интересуется: когда будет напечатана его книга? А мой папа Эфроим поручил узнать родословную химика Менделеева. Каково происхождение его фамилии: уж не от имени ли Мендель она произведена? Папа обращался по этому поводу к самому Дмитрию Ивановичу, просил заступиться за Менделя Бейлиса – судебный процесс вот-вот начнется. Ответа от Дмитрия Ивановича не последовало.
– Я тоже в сомнении: Сусанин – русский ли человек? – делился Распутин. – Фамилия явно стыкуется с неславянским женскким именем Сусанна. Отцу Дмитирия Ивановича фамилию дал сосед-помещик: но почему «Менделеев» – непонятно! Подлинная фамилия Афанасия Фета – Шеншин. Однако, не от помещика Шеншина он рожден. Лучше спросить самого химика. Пусть скажет: чего и зачем со своей фамилией нахимичил. Я давно собираюсь помочь Дмитрию Ивановичу совершить главное его открытие. Выдержки из книги Шимона я отправил в журнал «Русская мысль». И получил отлуп: «Бросьте ваши еврейские штучки».
– Поеду в редацию, пристыжу их! – взгорячился Янкель.
– Не надо! Я уже переслал отклоненный «Русской мыслью» трактат Шимона в «Figaro». Там его тиснут.
Симанович под столом давил Янкелю на ногу, Янкель сжимался, подсчитывая: в какую астрономическую сумму обойдутся благодеяния. Но Григорий Ефимович заявил: никакой компенсации брать не намерен. Подозвал цыган. И пустился в пляс.
Цыгане пели про отворенную калитку и тихий сад. Распутин выхватывал из-за пазухи купюры, осыпал солистов. Симанович подбирал те, что падали ближе к нему, чем к артистам.
– Пробросаемся, Григорий Ефимыч, – причитал он.
Янкелю приглянулась стройная молоденькая танцовщица по имени Гитана. На запястьях девушки переливчато звенели браслеты из серебряных монет. Голову венчал серебряный обруч с вплавленным в него лунным камнем. Распутин обратился к Гитане:
– Ты меня очаровала. Требуй, чего хочешь.
Девушка оробела. А Янкель, не ожидавший от себя подобной бойкости, попросил:
– Пусть останется навсегда красивой!
(О чем впоследствии сожалел: просить нужно о бессмертной молодости – ибо навсегда красивыми сохраняются и состарившиеся, и все те, кого любяще не забывают).
– Да пребудет Гитана прекрасной! – возгласил Распутин и поплевал на ладони, дернул себя за мочку уха, вырвал седой волосок из бороды. – Так тому и быть!
После чего, бросив (под жгущим взглядом Симановича) на стол ворох ассигнаций, Распутин позвал всех в гости к Дмитрию Ивановичу. Симанович изъял из расыпавшейся кучи – половину бумажек. Между ним, официантом и метрдотелем завязалась потасовка. Распутина это потешило:
– Ох, бережлив Симанович! Он, прежде чем уйти в кутеж, подсчитывает: хватит ли наличности? Разве это загул, когда все учтено?
– Оно лучше, чем по утру класть лед на голову и выворачивать карманы, искать копеечки на поправку, – отбрехнулся Симанович. – Скупой платит дважды, а щедрый – постоянно! Но русскую породу не переделать: банкеты, балы, вот и профукали страну!
В поджидавшей на подсвеченной жидкими газовыми фонарями улице машине Распутин занял просторное переднее сиденье. Янкель и Гитана расположились сзади, Симанович втиснулся рядом с ними.
– Ватман купил? – спросил Распутин шофера.
Тот продемонстрировал туго свернутый рулончик.
Квартира, куда они прибыли, поражала захламленностью, на полу валялись синие кристаллы купрума, стояли разбитые колбы, из них, образуя пестрые лужи, вытекали на паркет разноцветные лужи, в углу топорщились ржавые штативы.
Седой старик, похожий на пророка Иеремию с гравюры Гюстава Доре, дремал в ободранном кресле. Из продавленной спинки выперли пружины и клочки ваты. Портрет в багетовой раме, висевший над заваленным книгами письменным столом, изображал то ли самого дремавшего, то ли создателя первого российского университета.
– Да, Ломоносов не без моего колдовства возродился в Менделееве, – признал Распутин. – В Дмитрии Ивановиче клокочут еще и Леонардо Да Винчи с чертежами летательных аппаратов, Томас Мор с его «Утопией». – Распутин подлез под портрет. – Сличайте! И обнаружите мое сходство с тем и другим…
Потревоженный шепотом старик пробудился. Шевелюра над высоким лбом дыбилась, глаза воспаленно розовели. Помаргивая кроличьими веками, он принялся щелчками отряхивать сюртук.
– И все чертенята такие маленькие, с булавочную головку, – сокрушался он. – Я устал с ними смогаться! И гонять то их, то спирт. Люди переливаются в потомков, но длящийся веками эксперимент похож на разбавление спирта водой. Понижается градус, а необходимы возгонка и очищение…
Гитана восприняла слова буквально, отыскала веник и стала наводить чистоту. Распутин принес из чулана колченогий стул и подсел к бесогону.
– Таблица! – изрек он гипнотически.
Менделеев вздрогнул, будто услышал пароль. Находясь во власти производимых Распутиным гортанных звуков, Дмитрий Иванович вцепился в драные подлокотники.
– Таблица! – повторил Распутин. – Таблица! – И принялся водить растопыренными пальцами перед лицом Дмитрия Ивановича. – Спать, спать… Чтобы сделать открытие, нужно выспаться. Вас клонит в сон… Таблица, таблица…
Менделеев захрапел.
Симанович, вертевшийся возле тиглей и принюхивавшийся к исходившим из горлышек запахам, недоумевал:
– Чем он велик! Изобрел водку? Позор, а не открытие! Сколько семей несчастливы из-за пьянства! Золото из серы не добыл. Серебро из морской соли – не вычленил. Мендельсон хотя бы сочинил свадебный марш. Менделеев и Мендельсон, звучит похоже. Но свадебный марш – это вещь... На Руси принято было возвеселяться забродившим медом, напиток бил по ногам, а голова оставалась ясной. Водка отшибает разум!
Распутин шикнул на секретаря:
– Диссертация Дмитрия Ивановича «О соединении спирта с водой», защищенная аж в 1865 году, имеет непреходящее значение! Дмитрий Иванович научно обосновал неотвратимость возникновения алкоголя. Водку можно производить из древесины, картошки, пшеницы… Нет вещества, из которого нельзя было бы извлечь хмельной градус! Человечество не могло не натолкнуться на эту подсказку! Менделееву принадлежит честь первооткрывательства!
Симанович умолк, но продолжил корчить скептические рожи.
Из прихожей послышался шум. Пришли дочь Менделеева Люба и ее кучерявый поклонник. «Жертвенный барашек», – почему-то подумалось Янкелю. Распутин подтвердил:
– Войдет в комиссию по расследованию преступлений царизма. Будет редактировать тексты допросов Ани Вырубовой. Пусть бы писал стишки. Литераторам надо держаться подальше от власти.
Кучервый, не подозревая о своем безотрадном будущем, млел возле дочери великого ученого. Симанович интересовался:
– Вы не из тех Блоков, что в Мариуполе? Торговля пуговицами и иголками…
Кучерявый с достоинством ответил:
– В доме Дмитрия Ивановича не бывает евреев.
– Не бывает немцев, – поправила его Любовь Дмитриевна. – После того, как они забаллотировали папу при выбрах в русскую академию, он их на дух не переносит. А евреев терпит, они приходят… Но пьют мало, а с трезвенниками нет тем для разговора.
Менделеев закричал:
– Я увидел сейчас во сне!
Резко поднявшись, он устремился к письменному столу и принялся чертить на подсунутом Распутиным рулончике ватмана столбцы. Гитана едва успела смахнуть в пригоршню конфетные фантики и рассыпанные вокруг чернильницы кнопки.
– Периодическая система! – восклицал Дмитрий Иванович. И вписывал в вертикальные и продольные графы латинские обозначения. – Ай да черти, ай да молодцы!
– Не черти, а я подсказал, – лукаво подмигнул Распутин Янкелю.
Любовь Дмитриевну поразила перемена, произошедшая с отцом.
– После многих недель беспробудности он обрел работоспособность! – она склонилась перед Распутиным в почтительном книксене.
Старец польщенно рдел.
– Лучше барана своего образумь, – велел он Любови Дмитриевне. – Пусть кропает стишата и не подступается к Вырубовой и Фредериксу.
Менделеев закончил чертить и обратился к кучерявому:
– Ты, Александр, идешь от частного у общему. От дробности: от какой-то розы, бокала злотого аи – к Прекрасной Даме. А надо – от общего к частному. От необходимости, от долженствования – к составляющим частицам! Взгляни: между кадмием и кобальтом маячит поэма и порядковое число – не то «12», не то «13»…
Кучерявый стал всматриваться. И выявил выведенные симпатическими чернилами строки.
Янкель попенял Дмитрию Ивановичу за то, что тот не отвечает на письма Эфроима Кацмана. Менделеев оправдывался:
– Я занят популяризацией напитка, именуемого водкой, он – самый демократичный и доступный вид энергии.
– Невежливо не отвечать. Надо отвечать, даже если очень заняты, – излагал правила этики дотошный Янкель. – Пусть дочка вам поможет. Или ее спутник-поэт.
Дмитрий Иванович обещал исправиться.
Весь следующий день Янкель посвятил вычерчиванию периодической системы национальностей, где каждому народу отводил причитающуюся ему валентность – исходя из успехов в продвижении наук, искусств, политических первопроходств.
Григорий Ефимович корпел над ломберным столиком, тасуя дам, валетов и королей. Он колядовал: «Чтобы финансы не пели романсы, надо раскладывать чаще пасьянсы». И по-детски простодушно огорчался:
– Не склалось, А ведь проще простого, как в элементарной системе Менделеева… Если поменять двух сыновей Ханны на одну не предназначенную родиться дочь, придется заточить Ханну не в Треблинку, а в Аушвиц…
Временами старец брал в руки украшенную вязью иероглифов трость и гладил гриву рукояточного льва:
– По следам Пинхаса едет Василий Панюшкин. Лев Толстой увидит его, разволнуется, и болезнь возьмет верх… Да, люди, замещая друг друга и вступая меж собой в реакции, остаются в клетушках-клеточках одинокими, как я.
Распутин поощрял Янкеля:
– Составь таблицу великих людей! Не забудь вписать в нее Альберта Эйнштейна. Я ускорю его приезд в Принстонский университет. Там он разовьет мою гипотезу – о складчатости Вселенной – в доказанную данность. Материя ребриста, как доска для стирки белья: не увидеть происходящее за соседним барханом или в соседней впадине. Что же говорить о случающемся поодаль, за тридевять земель, в тридесятом королевстве и сотом ряду сопок и низин? Если не видим Ясной Поляны с Невского проспекта, то и смерть Толстого не видна. Ее как бы и нет!
Заполночь Распутин уехал к царю, а Симанович взялся просвещать Янкеля в иных плоскостях:
– Торопи Распутина, чтоб скорей исполнил твои просьбы. Его вот-вот убьют.
Янкель был ошарашен.
– За что? Он – хороший. У него охрана!
– Плохих не трогают. Охрана приставлена, чтобы обреченный был под боком, туточки, как кролик в клетке. Кто прикончил Павла Первого? Охранники. Охраняемый целиком в лапах стражи, – втолковывал Янкелю делец. – Вокруг Распутина соглядатаи от нескольких порешителей. – Симанович загибал унизанные перстнями пальцы. – Во-первых, шпики от министерства императорского двора…
– Есть такое министерство?
– А как же! Огромным царским имуществом надо управлять… – Симанович алчно жмурился. – Вот бы мне возглавить это министерство! Во-вторых, служаки министерства внутренних дел. То есть полиции. В-третьих, неусыпно несут вахту охранные подразделения банков. В их сейфах Григорий Ефимович держит капиталы, устраивает банкирам выгодные сделки под гарантии государства. Открывает, какие финансовые катаклизмы могут произойти на биржах…
– Убийство надо предотвратить! – разволновался Янкель.
Симановича занимал другой аспект.
– Григорий Ефимович богат… – Симанович растопырил руки, будто хотел объять нечто неохватное. – Но он транжира. В селе Покровское одаривает кого ни попадя: кому – коня, кому – корову, кому денег на детишек, чтоб ходили в школу. Нищим подает направо-налево, жертвует монастырям.
Янкеля тревожили не расточительность и не огромные сбережения Распутина, а подстерегающие старца тенеты:
– Мы должны заговору помешать! Может, ради того, чтоб спасти Григория Ефимовича, я и оказался в Петербурге…
Симанович качнул рыжей копной волос:
– Не нашего ума дело. Нам, евреям, своих бед хватает… Надо успеть обстряпать собственные прожекты, вот и все.
Если бы Янкель побродил по Петербургу и послушал, о чем судачат обыватели, он убедился бы: грядущее покушение обсуждают буквально все – извозчики на козлах пролеток и официанты в трактирах, охочие до щекочущих происшествий зеваки на перекрестках и покупатели свежей корюшки в магазинных очередях, о неизбежном убийстве сообщают (завуалированно и открыто) расклеенные на стенах листовки и газеты (между строк и в зазывных заголовках).
Ночлежник, которому Янкель принес щедро отсыпанные Распутиным на выкуп залога деньги, не отдал ни талес, ни магендовид, а за лапсердак заломил неправдоподобную цену.
– Гони миллион!
– Вы с ума сошли!
– Иначе сдам тебя в полицию! Я и без того слишком добр, а ты, пархатый, куражишься над моим невыгадыванием. Да, не вашей мы веры! Не жмоты, в отличие от вас!
Крик бородача и топот его потрескавшихся сапог подняли столбом ночлежную сухую взвесь. В спертой затхлости взроились иссохшие пух и перья. Янкель, ощущая скрип на зубах и стараясь не заглатывать болезнетворную гадость, дотумкивал: глагол «вспылить» отручьился не от идиомы «с пылу с жару», а – от «запыленности».
Ни полиции, ни высылки Янкель не страшился: очутившись в магнетическом притяжении великой личности, проникаешься мощью вседержительства. Но переживал за талес и магендовид. Лишь мельком подумав: не расширить ли список народов-антисемитов за счет узколобого ночлежника (которого заподозрил в неандертальстве), напротив, сказал скобарю приятное:
– Сколь ни стараюсь, не получается запомнить имя американского президента Вудро Вильсона, потому ассоциирую его с «ведром»… Неисчерпаемы богатства российской грамматики!
И приспичило же Янкелю комплиментничать и метать бисер! Ведряная аллитерация ввергла ночлежника в слюнобрызгание:
– Всем известно: Распутин покровительствует евреям. Вот убьем его, тогда не посмеешь надсмехаться.
Янкель выволок косматого бородача на улицу.
– Хоть бы пол подмел! Половики не выколачивал вечность! Густопсовая атмосфера. Неужели самому не противно? Вы – как из диких степей… Чуть что не по-вашему – убивать!
Они стояли посреди тротуара. С обеих сторон их обтекал поток прохожих, недовольных тем, что пожилой и молодой задиры загородили проход.
– Не сучи ножками. А то и тебя порешим, – ощетинился боров.
Янкель ушел, так и не выкупив вещи.
В тот вечер большой компанией: Менделеев, Блок, Любовь Дмитриевна и дочь Распутина Марфа снова отправились в «Медведь». Янкель, просительно сложив ладони лодочкой, завел неприятный разговор:
– Вам, Григорий Ефимович, надо беречься.
Распутин отмахнулся:
– Ничего плохого не будет, милай… Я – прямодушный шелудивый пес, стерегущий трон! Швыряйте в меня грязь, я набросанное из шерстки вычешу. Отменять покушение нежелательно. Ради будущих поколений…
Григорий Ефимович был в белой полотняной рубахе (как стрелец перед казнью с картины Сурикова), в полосатых чесучовых штанах и скрипучих лаптях. Янкель отметил: действительно схож с Ломоносовым. И с Леонардо да Винчи. И с поэтом Некрасовым. А еще почудилось (но это, конечно, была фантазия – после стычки на улице): смахивает на косматого ночлежника – борода до глаз, кошачий взгляд, стойкий запах табака и шиповниковой мадеры.
– Нельзя ли улучшить вкусовые качества отвара шиповника и довести их до водочных стандартов? – расспрашивал старец Дмитрия Ивановича.
– При фильтрации совокупностью элементов моей таблицы – элементарно! – отвечал химик. – Она недаром зовется элементарной.
Менделеев поддержал призыв Янкеля:
– Не дети Льва Толстого, не моя дочь, не ее кучерявый жених, а вы, Григорий Ефимович, – ярчайший пример восхождения к совершенству! Все мы произошли от доисторической рептилии, та древняя тварь ничего не понимала в окружавшем мире, но постепенно выявила массу полезных для выживания непреложностей: закон тяготения и сохранения энергии, действия и противодействия, учредила таблицу умножения… А теперь и периодическую таблицу… Как понимать, как трактовать путь этой твари? Как попытку стать равной Создателю?
– Именно! – воодушевился Распутин. – Воители Господней рати – насельники Оптиной Пустыни и Ватиканские кардиналы уже не рептилии и не отдадут божьего человека на поругание. Будущий Папа Римский в настоящий момент гоняет тряпичный мяч и только что отправил его в ворота соперников. Го-о-о-л! И на футбольного Папу Римского станут охотиться. Безуспешно.
Из ресторации ехали вдоль Обводного канала, и тут в автомобиль врезалось ландо. Двое выскочивших мужчин выхватили револьверы и открыли беспорядочную стрельбу, целили в упор, но пули летели мимо старца и пассажиров. Пострадал оказавшийся на дороге и угодивший под шквальный свинец извозчик подводы, груженной вяленой рыбой: раненый, он лежал на мостовой и истекал кровью.
Налетчики скрылись в переулке. К криво вставшему «Бугатти» бежали выпрыгнувшие из подоспевшего «Руссо-балта» охранники.
Распутин наподдал ногой валявшуюся под фонарем черно-золотистую тушку стерляди и склонился над умирающим. Прошептал что-то. Поводил руками – тот привстал. А потом и вскочил на ноги. Следы от пуль затянулись.
– Решают не года, а мгновения! – назидательно изрек Распутин и вплел «казус произошедшего» в ткань прежде им говоренного. – Охранники мои – банка консервов. Килька. Я однажды видел: раздавило такую банку колесами. Маринад во все стороны!
Продолжили путь. Распутин мараковал над дальнозоркой трубой.
– Не уходят страшные видения из моей логарифмической трехлинейки! – Он всматривался в мерцающий экранчик. – Да, может стать еще и винтовкой, в случае необходимости… Не было такой трехлинейки у великого князя Сергея Александровича… Когда его же охранники толкнули его под бомбу! Приходил ко мне потом взорванный. На сороковой день. Головы нет, берцовые и ключицы расколоты. Как для фарша в мясном ряду. Окропил я его живой водой… Да разве воссоздашь? Если рассыпается на тефтельки… Собирали его по всему кремлевскому двору. Это ж надо: взорвать в Кремле! Одна рука аж на крышу караульного помещения улетела!
Луна выкатилась из-за облаков истертой монетой – с вычеканенным профилем Иоанна Крестителя. Янкель вздрогнул. Ему почудилось: на щербатом небесном блюде покоится отсеченная голова Григория Ефимовича.
Утром Янкель обсудил с Марфой детали намеченной им хитроумной подмены. Марфа одобрила трудноосуществимый (и все же реальный) план: Григорий Ефимович с поддельными документами и обеими дочерьми, переодетыми крестьянками, сбрив бороду и сделавшись на себя непохожим, уезжает в Луховицы, под Рязань. В петебургской квартире на Гороховой поселяется двойник Распутина – Янкель. Внешнее сходство Янкеля с Распутиным будет достигнуто посредством загримированности. Янкель увидится с Юсуповым и будет регулярно сообщать старцу (через специального нарочного, может Симановича?) о том, что происходит в царской семье. Если потребуется, старец срочно вернется. А Янкель, когда случится очередное нападение, примет добровольную гибель. Против этого пункта Марфа, конечно, возражала. Но Янкель был готов жертвовать собой:
– Пусть Григорий Ефимович займется привычным крестьянским трудом, разобьет огуречную плантацию…
Распутин, когда Янкель ему открылся, фарсовую идею отъезда в Луховицы отринул:
– Меня ни пули, ни яд не возьмут. Я заговорен. А тебе на роду назначено стать спасителем цыганского табора. Уж если покину Петербург, то ради возвращения в Тобольскую губернию, где буду царю нужнее. Передавать новости из Петербурга и Москвы в Тобольск тебе еще выпадет.
Тем не менее Янкель от авантюры не отказался и вовлек в нее Дмитрия Ивановича Менделеева. Попросил его изготовить порошок:
– Чтоб на короткий срок останавливал дыхание. Вроде человек умер. А на деле – крепко уснул.
Менделеев признался, что давно хотел наладить выпуск «тормозящих» пилюль (на основе шиповниковых безалкогольных квасцов). Он с энтузиазмом взялся за дело. Симанович тоже примкнул к перспективной затее. И не отставал от Менделеева:
– Меня возьмите в долю! Вложусь в строительство фармацевтической фабрики!
За глаза секретарь ясновидца продолжал критиковать Распутина:
– Отчитывается о разорванном на куски Сергее Александровиче, родном дяде императора, будто о покупках в мясной лавке! Разве можно так о представителе царской фамилии?
Мечта сделаться фабрикантом привела Симановича к усложнению схемы: заменить Распутина не загримированным Янкелем, а владельцем ночлежки. Живой Янкель мог оказаться полезен – как компаньон на фармацевтическом поприще, и Симанович провел переговоры с ночлежником, тот радостно согласился стать двойником старца: еще бы, пусть на короткое время перед дурнем открывались необозримые возможности – посещать дворцы, бывать в покоях Юсупова, красоваться на светских приемах... Даже трагический финал его не смущал: ведь похороны состоятся по первому разряду – а за роскошество не стоит ли заплатить бросовой жизнью? Ночлежник вернул Янкелю талес и магендовид и с нетерпением ждал, когда его представят Григорию Ефимовичу.
Распутин жалел глупца. А Симанович настаивал:
– Поделом! Будет знать, как зажиливать чужие вещички! Янкеля сделаю управляющим фабрикой. – И подмазывался к будущему своему наемному подчиненному: – Если уломаешь Григория Ефимовича на подлог ночлежником, прощу тебе долг, а ведь ты задолжал мне миллионы… Но ты меня перевоссоздал, объяснил мне мою неправоту и меркантильность. Я стал другим. Я, твой брат Арон, искренне хочу заботиться обо всех.
Потом Симановича обуяла зависть: ему встряло самому сделаться Распутиным и щеголять в его облике.
– Рано или поздно каждому приходится умирать, – рассуждал он. – Зато последние дни проведу по-королевски… Буду о министров ноги вытирать.
Выжигу-трактирщика он из затеваемой трагикомедии исключил.
Что произошло дальше? Антон увидел продолжение с помощью подзорной трубы.
Ночлежник, обманутый в радужных ожиданиях, донес на Симановича полиции, Симановича заключили в тюрьму. Низколобый доносчик – под видом Распутина – явился к Юсупову. Юсупов с дружками: Пуришкевичем, Лазавертом и великим князем Дмитрием Павловичем, не усомнившись в подлинности двойника, прикончили беднягу. Они дивились удаче: до чего легко сумели ликвидировать любимчика Господа и царя! Жертва сама пришла в западню…
Слух о расправе над Распутиным распространился по Петербургу. Царица рыдала. Царя в столице не было. Пользуясь его отсутствием, Юсупов, обуреваемый жаждой новых смертоубийств, хотел порешить и царицу, напрашивался к ней на прием (свершись эта казнь, и дорога к трону была бы расчищена для нового звероподобного правителя – подросшего Минотавра-упыреныша, который требовал все больше мяса, в том числе родственного, венценосного, царь без царицы сделаться серьезной помехой рогатому преемнику не мог), но государыня отказала кровопроливцу Юсупову в аудиенции.
Полиция запуталась, выясняя: кто убит и сброшен в полынью? Высшие чины спрашивали друг у друга: где подлинный старец? Чтобы царственные особы не паниковали, рыжего Симановича под покровом ночи доставили в Екатерининский дворец, пигментировали бороду и шевелюру, напялили армяк и объявили: божьего человека удалось спасти. Ряженого Арона поселили в подвальной комнате, расположенной под бильярдной государя.
Менделеев навещал Симановича, вместе они выверяли состав чудодейственного порошка. Всем, кто расспрашивал, как удалось спастись от яда, подсыпанного Юсуповым, Симанович отвечал:
– Когда князь начал меня спаивать и кормить пирожными с цианистым калием, я принял омоложивающие пилюли и превратился в юношу… Покупайте таблетки «Распутин», они позволят продлить дни и сохранить бодрость!
Янкель уезжал из Петербурга с молодой женой – цыганкой Гитаной, увозил всевидящую трость и письмо к отцу от Менделеева.
На прощанье Янкель горячо благодарил подлинного Распутина:
– Не знаю, как воздать за сделанное вами, Григорий Ефимович…
– Лошадка, выкованная твоим отцом, мне по сердцу. Вот и вся расплата, – не хотел слышать ни о какой мзде старец.
Через Янкеля подлиннный Распутин передал совет Пинхасу: «Стань героем, чтоб понравиться Ревекке. Спеши, иначе суженая выйдет за другого, возможно, за Альберта Эйнштейна, он уже предпринимает разыскания невесты в России, гадалка ему наворожила: самая его большая любовь будет из нашенских краев…»
Менделеев изготовил для Гитаны брошь из редкоземельного металла. Украшение превосходило прочностью и красотой рукоятку трости Шимона. Симанович готов был отвалить за эту ювелирную редкость пять миллионов. Но Гитана сказала:
– Разве могу продать свадебный подарок?
Полученным от Менделеева и Распутина рецептом вечной молодости Янкель собирался поделиться с Пинхасом: препарат поправил бы пошатнувшееся здоровье Шимона, столь выигрышный козырь возовысил бы авторитет жениха в глазах Ревекки. Но Шимон не стал принимать чудо-эликсир.
СТАТЬ ВРАТАРЕМ
Поезд, в котором Петр Былеев провел бессонную, после оскорбительного допроса, ночь, подъезжал к Варшаве. Два звенящие гонга, сталкиваясь, заглушали второстепенные мысли: взять обратный билет и вернуться в Москву – или разыскать амулет? Без заговоренного Распутиным медальона с детскими прядками лучше на глаза родителям не показываться.
Выйдя на перрон, Петр обмер: мимо шествовала, в сопровождении темнокожих, вероятно, мавританского происхождения, слуг зеленоглазая сильфида – несколько часов назад увиденная в фантасмагорическом сне. Леопардовая шуба мягко облегала стройную фигуру, запомнившиеся перчатки – с прорезями для хищных ноготков – дополняли экстравагантный наряд…
Когда мираж растаял, Петр двинулся (ёжась от пронизывающего ветра – пожертвованных новоиспеченному Пугачеву пальто и шарфа явно недоставало) на сияющую витринами Маршалковскую и приискал плащ с теплой подстежкой. Денег после вспомоществования русскому жану вольжану (не исключено: лысый и впрямь был беглым каторжником) не осталось, пришлось одалживаться из конверта оранжевофрачного скрипача.
На проплешине меж палисадниками он увлекся созерцанием диковинной игры: мальчишки гоняли растрепанный качан тряпичного мяча. Бойкий вихрастый паренек творил с прихрамывающе катающимся комом чудеса: подбрасывал, перекидывал с ноги на ногу, убегал от медлительных партнеров, они кричали: «Войтыла-заводила, отдай пас!», «Отзеркаль в «стеночку»!», «Прострели!», «Навесь!». Петр прислушивался к непривычным возгласам: «Ну и финт!», «Вот это обводка!», «Удар в «шестерку»!», «Удар в «девятку»!» – на цифровые секторы были поделены «ворота», которые обозначались «штангами», то есть поставленными на расстоянии одна от другой штакетинами, меж ними следовало вкатить или вколотить раздерганный глобус. «Форварды», «бэки» и «хэв-бэки» лупили по нему «пыром», «щечкой» и «шведкой». Наблюдать такое в Москве Петру не доводилось. «Городки», «лапта», «чижик», бег в мешках и на лыжах, катание на коньках по замерзшим прудам – вот чем пробавлялись соотечественники. «Европа развлекается и соревнуется на свой манер, – подумал Петр и поправил себя: – Польша – провинция, окраина России!». Но с каким гонором бравировали маленькие шляхтичи новоизобретенными, вернее, новоиспользуемыми – английскими? шведскими? голландскими? – словечками!
Не удержавшись, Петр примкнул к мелюзге, помчался за «глобусом-качаном» – в своем развевающемся длиннополом балахоне. Сражение прервали. Оказалось, неофит нарушил правила, следовало соблюсти процедуру: подойти к «капитану» и спросить (но это уж – на местном наречии, родственно «Матке Боске Чинстаховске»): «матки-матки, чьи заплатки?», получить допуск в «команду» и неукоснительно исполнять регламент – не забегать в «офсайд», не уводить мяч за пределы «поля» (тоже – славянизм и напоминание о русской народной песне «Полюшко широко поле»), подножки и касание мяча рукой карались назначением «штрафных», «одиннадцатиметровых», «угловых» и «свободных» ударов, существовали дополнения к основным наказаниям: «три корнера – пеналь», «вбрасывать» «из-за боковой» следовало обеими руками, а не как тяжелоотлеты толкают чугунное ядро с плеча…
Остывая после затянувшегося до сумерек «матча», Петр мысленно корректировал свои досадные «фолы». Траектории перелетного шара затейливыми вьюнками оплетали образ зеленоглазой сибиллы в леопардовом манто, забыть повелительницу мавров Петр не мог. «Не так далеко от Москвы я нахожусь, – рассуждал Петр. – Вернусь, когда захочу, вернее, когда исполню просьбу музыкантов: возложу цветы композиторам».
Прогуливаясь под моросящим дождем по скудно освещенным средневековым кварталам (не отправляться же к упокоенному Шопену затемно!), он увидел в костеле замершего перед аляповато раскрашенной гипсовой статуей Девы Марии вихрастого свершавшего стремительные прорывы «по флангу» неудержимца – сейчас парнишка был преисполнен серьезности и смирения. Петр вспомнил себя в мальчишестве и просьбы к Господу, чтоб одарил расписной лопаточкой для разгребания снега (такая была у соседского сверстника), чтоб сестры выдержали экзамен в медицинское училище, чтоб папа и мама не болели… Эти обращения повторил бы и сейчас: Надежда Ивановна часто простужается, отец стареет, сестер на медицинские женские курсы так и не приняли… Не мешало заручиться божественной поддержкой и в поиске оберега-амулета… Но взывать к занебесью оправдательно в ранние наивные годы, а зрелость избавляет от иллюзий: даже ерундовая лопаточка не была ниспослана. «Да и услышится ли православный глас, вознесенный из католического святилища?» – Петр невольно сравнивал знакомую с младенчества коленопреклоненную, отирающую каменные плиты церковного пола подолами и брюками паству – с пожилыми и молодыми удобно расположившимися на деревянных скамьях и вторивших сухощавому ксендзу по миниатюрным молитвенникам прихожанами. Отец не уставал повторять: «В церковь приходят трудиться, а не нежиться!».
Дождавшись, пока юный форвард закончит разговор с Пречистой, Петр приблизился и спросил (как самого себя):
– О чем столь истово просишь?
Мальчик ответил:
– Люди не хотят сделаться идеальными, при этом жаждут идеала: чтоб начальник не притеснял и платил больше, чтоб соседи не досаждали, а друзья защищали и не предавали. Мужчина хочет красивую жену, женщина – богатого заботливого мужа. Но сами просящие не стараются соответствовать требованиям, которые предъявляют другим: предают благодетелей, не берегут семью, самомнятся – непревзойденными… Быть верным в браке им тягостно, с соседями по дому и из сопредельных государств воюют…
Недетская глубина суждений поразила Петра.
– А еще прошу Всеблагого, – сказал мальчик, – чтоб образумил моего папу, юриста, он полагает: я должен был появиться на свет в день всепольского национального праздника, это придало бы моему будущему небывалое духовное наполнение, а я родился в обычные, ничем не примечательные будни. Отец привез меня в Варшаву из Вадовице, где мы живем, чтоб выправить метрические бумаги и изменить дату моего рождения.
«Вот тебе и прогрессивная, просвещенная Европа! – ахнул Петр. – Суеверия тут похлеще, чем в российских медвежьих углах!». Он потрепал мальчика по волнистым вихрам.
– Не божественными вмешательством и не подтасовкой бумаг исполняются грезы! Человек – хозяин собственной судьбы.
Ребенок задал встречный вопрос:
– Завтра игра с гимназистами из Кракова. Я просил Господа помочь мне забить пять голов! Разве такое в людской власти?
Петр рассмеялся:
– У тебя прекрасный дриблинг. И хорошо поставленный прицельный удар. Но если не забьешь пять мячей, ничего страшного. Может, лучше усмирить амбиции и не тешить несбыточные грезы, не выклянчивать чудо, а полагаться на себя? Не бегать сломя голову в надежде на ворожбу, а занять место в обороне или воротах? Стать вратарем…
Слово, соскользнувшее с языка, понравилось и Петру, и мальчику, который счастливо засмеялся:
– Охранителем врат? Но такого амплуа нет в футбольном своде. Известно традиционное: «голкипер».
– Сдерживатель мячей? Нескладное обозначение. А «вратарь», то есть, «привратник», приставленный к вратам страж – другой коленкор: не амплуа, а миссия! – с воспитательным уклоном чертил линию еще и лексического совершенствования чуткий к напевности родной речи Петр. – Не нужны английский и голландский сленг. Прелесть дзяд Мицкевича и баллад Норвида предопределят красоту твоей судьбы! Как знать, может, после того, как изменится твое футбольное кредо, переиначится и жизненное преднезначение!
– Это совпадает с предположениями папы, – подтвердил мальчик. – Он уверен: мое имя станет другим, когда дата рождения приурочится к народному торжеству. Сейчас я – Кароль Войтыла. А стану…
– Королем Польши? – пошутил Петр.
Мальчик остался серьезен:
– Талантами и успехами, в том числе футбольными и литературными, наделят Господь. Я сочиняю стихи. Если Бог сочтет их нужными, необходимыми читателям, они обретут известность.
– Не Бог, а я помогу тебе их опубликовать, – заверил Петр. – Хлопочу об издании своего реферата. Заодно займусь твоей поэзией. Духовные взлеты превыше уличных офсайдов. Пришли мне вирши. – И продиктовал: «Зубовский бульвар, Дом дворцового ведомства». На секунду Петр задумался. – Пока не знаю, когда окажусь в Москве… Предстоит встреча с Римским Папой…
Повинуясь какому наитию, он это произнес? Будто наперед знал о предстоящих визитах в покои Ватикана и встречах с понтификами. Или предчувствие навеял мальчуган с вихрастой челкой, записавший адрес на клочке бумаги? Попрощавшись с забавным парнишкой и уходя, Петр услышал его новое обращение к Деве Марии:
– Сделай меня Божьим послушником и хранителем врат. Алтарных и небесных. Иоанном Павлом Вторым. Принесу родине славу и свободу…
Петр продолжил прогулку и, спасаясь от припустившего ливня, вбежал в кафе. Официант в клеенчатом фартуке, начинавшемся под самым горлом (такие носят на скотобойнях), принес яблочный пирог и чай. Ставя угощение перед клиентом, указал на компанию драножилетных мужчин, шумевших в углу:
– Сбросить иго царизма!
– Освобдить угнетенных!
Драножилетники, шуршавшие передаваемыми из рук в руки прокламациями, дымившие папиросами, были способны оказать помощь в розыске того, к кому перекочевала ладанка. Но подойти, начать расспрашивать – примут за шпика…
От сборища отделился лысенький шибздик, молниеносно приблизился, сел (без приглашения и здоровканья) на скрипучий стул и колюче – так шпилечно ищут монетку в пироге – зыркнул.
– Вот и свиделись…
Лишь теперь Петр узнал вагонного революционера. Обода вокруг глаз знакомого незнакомца оставались бархатно воспалены, небритость превратилась в козлиную растительность. Черты, двоившиеся в полутемном купе, стали до рези в веках неприятны. Робея, Петр вымолвил:
– В пальто остался кулончик.
Шибздик качнул лысым кумполом и подался вперед тщедушным телом.
– Дурью маетесь, батенька? – Изрекши грубость, он не попытался ее смягчить. – Ну и жизнь ведете… Никчемную. Пустую… Лучше дайте взаймы.
У Петра зрачки выкатились на лоб. Не умещалось в сознании: будучи облагодетельствован, тип нахальничал, грубил!
Но революционеры потому и неугодны власти, что ломают стереотипы, низвергают привычное!
– Пальто перекочевало к другому товарищу. Не могу требовать его назад! Это будет по-вашему. По-богатейскому: «Скидовай клифт!». Тут, в Варшаве, прохладно. – Коротышка делано покашлял.
– Я не о пальто, а о ладанке! –Петр зарделся. Никогда прежде он не выступал в роли отбирателя дареного. Неблаговидной роли!
– Знать не знаю, что лежало в ваших карманах. Я не лазаю по чужим…
– Я такое не говорил…
– Ладанки, крестики, амулетики – опиум неудачников. Оправдание их немощи и дури: отлупили, а они подставят вторую щеку.
Петр заговорил смелее:
– Позвольте мне самому решать: что нужно, а без чего – обойдусь. Я хочу ладанку.
– Не будьте мелочны! – Тощий шплинт уже не походил на китайского болванчика, не раскачивался вправо-влево, а превратился в тетиву и метал стрелы: – Вы при деньгах, у меня их нет.
– Я вам дал. Недавно…
Петр сгорал со стыда. В другой ситуации он поднялся бы и ушел. (Если б мог забежать вперед и узнать последствия диалога, так бы и поступил.). Но надеялся вернуть кулончик. Так и не сделав ни глотка из дымящегося стакана, Петр не мог согреться. Весь во власти плешивца, он ловил его ошарашивающие речения:
– Отцу Зевса Крону скормили камень вместо его собственного ребенка. Гурман Крон любил, пальчики оближешь, пожирать детей. Зевс, по примеру своего папаши, тоже проглатывал кого ни попадя, скушал богиню разума Метис. А потом родной сынок Зевса Гефест разрубил папе голову, из нее выпорхнула Афина Паллада… Какой вывод из этих побасенок?
Тема была Петру близка.
– У меня о свержении богов написан реферат. Из-за того, что отдал вам пальто, мое исследование конфисковали…
Тип всосал, вобрал, втянул произнесенное, но тетивой быть не перестал:
– Из колыбельных мифов, ведь Греция – колыбель культуры, с неопровержимостью вытекает: надо шваряться камнями, вспарывать животы, мозжить черепа! И выпорхнет прелестная революция. Она пожрет своих детей, но не станем же из-за этого отменять назревшие преобразования! – Шибздик хмурился, в переносице обозначились верикальные морщинки: – Я по этому поводу стишок срифмовал: «Жили были деда да баба, ели кашу с молоком, разозлился дел на бабу – хвать по пузу кулаком. А из пуза – два арбуза. А из носа – два революционных матроса…». Нравится?
Не умевший таиться Петр не справился с наплывом эстетической бразгливости. «Что за напасть, – мелькнуло в сознании. – И футболисты, и революционеры сочиняют…»
Шибздик не стал дожидаться похвалы:
– Официально заявляю: я не лазаю по чужим карманам. Своего товарища попрошу освидетельствовать содержимое…
Предположить в шибздике уязвленность было трудно, но Петр собрался духом для никогда не лишних извинений:
– Мне дорог этот амулет…
Тип разразился:
– Если ваши обноски не на помойке, все, что в них находилось, получите сполна. А пока ссудите… Хоть сколько-нибудь.
Стыдясь не присущей ему скаредности, Петр достал из конверта две музыкантские банкноты.
– И это все? – шибздик уничижительно вертел купюры.
– Все, что могу. Где увидимся? Насчет амулета.
– Да хоть здесь же, – без секундного колебания назначил свидание шплинт. – Завтра… Нет, послезавтра… Утром...
Ни утром, ни днем, ни вечером шплинт не явился. Его рваножилетных приятелей как ветром сдуло. Подавала в клеенчатом фартуке посматривал на обосновавшегося за столиком простофилю сообщнически, приносил чай, минеральную воду и уморительно прыскал над умывавшейся обслюнявленной лапкой кошкой.
Петр убеждал себя: «Жить надо так, чтоб не стыдиться ни единого поступка! Не выцарапывать, а раздавать. Я правильно сделал, что помог преследуемым!». И ругал себя: «Покидая дом, не произнес (а святой хранитель, соответственно, не услышал): «Ангел мой, пойдем со мной…», вот и лишился оберега». И повторял: «Ангел, помоги вернуть амулет!».
Панибратский официант схватил кошку за шкирку и вышвырнул на улицу.
ПОГОНЯ
Умственное необмеление – в обиходе: мудрость – есть выслуга уединенного долготерпеливого пользительного сцеживания в нерасплескиваемый кумпольно-черепной накопительно-мыслительный сосуд поступательно рассортировываемых приятий или отторжений всего случающегося и могущего произойти. Необходимо жестко ревизовать и просеивать, дисциплинировать свои чердачно-аналитические припасы – схоже с тем, как подвергаешь дрессуре телесную мускулатуру. Отказаться от тренировок – еще как обременяющих! – и душевно-гимнастических помостов, скользких «брусьев» (на которых приходится вертеться до седьмого пота), козлово-конных физкультурных снарядов-препятствий (поверх которых надо сигать и приземляться, будто в чехарде), прекратить изнурительное отлаживание-шлифовку норовящей впасть в одичание натуры, послать подальше надоедливый, сравнимый с гантельно-металлическим вытрясающим жирок самоуспокоенности труд (отменить утяжеление «блинных» весовых насадок!), перевалить подминающую ношу сиамски неотделимого интеллекта на чужое чело (или горб) – означает: расколоть упомянутую драгоценную чашу и допустить утечку невосстановимого капитала, уполовиниться, а то и вовсе изъяться из реальности.
Губят высоколобцев (как ни печально расписаться в сей очевидности) не голо торчащие, достигающие господней всеблагости головокружительные вершины, не происки рогато-хвостатого преисподне-вездесущего везельвула, издревле встревающего поперек совершенствования двуногой людской породы, а уныло-примитивные, крайне низкого пошиба свары (позволительно ли, кстати, в русле этой логики заключить: отсутствие рогато-хвостатых дьявольских примет и свойств – симптом неподатливости человечества сатанинским ухищрениям?). Ни бельмесно не апельсинничающие в разметанном перед ними бисере вселенских мистерий беспонятцы, занятые выпячиванием себя, прежде всего – себя непревзойденных, впутывают светочей-непогрешимцев в зряшные раздоры, понуждают вязнуть в нескончаемо-пустобрешных преткновениях.
Осанна парниковости не нужна (напротив, вредит) окормителю, ибо множит непроворот нелепостей, гноит плоды и корневища напряженнейше выпестованных убеждений – давая простор и подкормку сорняковым всходам. Печален удел идущего на поводу у самовлюбленцев-непойми-о-чем-звонцев сеятеля: низринутому вождю и вчерашнему кумиру (теперешнму бесславному прокаженцу) не стяжать и грана былого почитания, не вызволить тупо-глухо-ощеренных дундуков из плена неправоты – постфактум и нехотя признают они свое фиаско, но внимать истинному поводырю будут снисходительно (если вообще послушают) и свысока. Не сыскать развенчанному предводителю, добровольно влекущему себя на плаху несбыточного сотоварищества – ни проблеска философского озарения в затемненных мозгах коллективного япупземельного эгоцентризма. В молниеносный миг тот, в чьем мессианстве не сомневались, превратился в приносителя напрасных даров (и жертв) и произносителя никчемных сентенций.
– Что можешь знать о будущем, Шимон, если прошляпил-проморгал Ревекку? Не пугай погромами, не страши печами, где нас якобы сожгут! Ничего предсказанного тобой не случится! – вздевали недавнего оракула на острия сарказма-остракизма разлюбившие его пустомели.
Шимон, наперекор вопяще вопиющему огульничеству, призывал: «Не позвольте застать себя врасплох!» и собирал подписи в поддержку оболганного Парижем (и прочими европейскими столицами) безвинного бесправца (текст составил сам): «Дрейфус, не дрейфь!» – гнусный навет мог перерасти в повсеместные преследования. Впавшие в непозволительно несопротивленческую одряблость адепты несплочения принимали второстепенное за главное:
– Будь ты всезнавцем и всеумельцем – как древний князь Ярослав, что пустил евреев в киевскую власть, мы бы припеваючи освоились в центральных городах! Ты не обеспечил даже эту малость, вот и сдернула дочка от твоих скучных умствований с шалопаем-пиликателем и шаловливым его смычком! Замкни ворота, чтоб Ханна и Юдифь не упорхнули! И рот пришпиль: Дрейфуса пусть защитит читаемый и почитаемый тобой Эмиль Золя, нам нет дела до Франции, она далеко!
– Потяни за ниточку в Париже, отзовется в Бердичеве! – сокрушался Шимон. – Прочтите «Жерминаль» – пока фашистские уничтожители не превратили книги Золя в золу! Изучите шахматные дебюты Ласкера и Алехина. Невозможен одноходовый мат. Необходимы предварительные заградительные редуты. Иначе Гитлер беспрепятственно приведет войска в Париж. Хотите, чтоб он вместе с Муссолини и в Киеве устроил муссон-пуазон?
Не слушали и не слышали. И не хотели знать, что «пуазон» в переводе с французского – «яд».
– Ничего не значащим пустякам придаешь статус всеобщности! На расшитом невероятным количеством бисерных событий полотне Истории неведомые нам Гитлер и Муссолини, судебный процесс над Дрейфусом – пятнышки-пылинки, не приписывай им размер солнечного затмения!
Шимон отказывался верить, что недомыслие может сделаться повальным, а кротовья близорукость способна поглотить всех:
– Малозначашие факты?! Ничего себе! Это – оползень, обвал! Разобщимся, и засудят не только Дрейфуса и Бейлиса! А каждого. Об этом пишут-кричат Владимир Короленко и Шолом-Алейхем, а вы соревнуетесь в чушеизгалятельствах!
Но приравнивание малосмышлености к стихийному бедствию вызывало снисходительные усмешки. Призывы к единству проваливались в пустоту, не размножаясь эхом. Количество поддерживальщиков Шимона таяло, редели сколоченные им и любавическим ребе отряды самообороны. Палачи, не встречая отпора, тянулись к топорам. Даже ангелы из молельни, куда Шимон поместил подаренную царем икону, напустились на уже не любимчика:
– Не слишком ли много на себя берешь? В Небесной Читальне опозорился, соскребая краску с буковиц, отрядил Пинхаса на конгресс... В Книге Книг разве сказано: нужно гнать его в Остеррейх? Мы старались, залучали жениха для Ревекки в Златополь – а ты шуганул! Все задолго продумано. Предусмотрено. Нет, мешаешь!
Поделом распекали: Небеса вкупе с самодержцем Российским и Иоанном Предтечей (даже при отсеченной голове не утратившим разумение) преподнесли Ревекке «чего-изволите» мужа, а Шимон искапризничался, зарвался, досамодурствовался до отсылки Пинхаса – в Ясную Поляну и Вену!
Впрочем, для того и даны извилины, чтобы ими шевелить: припоздниться с выводом – не столь накладно, сколь исправлять скороспелую опрометь. Беспрекословны лишь пустоголовцы. Неприкосновенность мнения – в отбрыкивании от навязанной сомнительной привилегии: не рассуждая, исполнять! Шимон удерживал усталую улыбку – поверх оскорбленно-угловатой непреклонности скул. А рекруты ложного оптимизма (всегда готовые переметнуться в противничий стан) и традиционалисты, с молоком матери впитавшие: сбежавших надо ловить и наказывать, чтоб другим неповадно было рваться с цепи, верещали:
– Разыщи гулящую! И всыпь по первое число! За интрижку с музыкантом! Иначе ты не отец. Ни дочерям своим. Ни нам!
Ублажи помраченных согласием – и притихнут. И, быть может, опять провозгласят – солнцеподобным. Чем больше уступок, тем выше зенит надстояния. Коль взыграло бы в Шимоне ретивое и ответил бы аж приплясывавшим от распиравшего их дикарства непотребцам – однобоко, в унисон их визгливости (невозможно поверить: сих хулителей он голубил на протяжении многих лет!), превратился бы в противоположность самому себе, стал таким, каким не имел права быть – не вправе таннай, провидящий недоступное другим, замыкаться в молчании или срываться на крик. Недостойно – пользоваться инертностью окружающих и постигшим их разум параличом: рано или поздно сбрендившие очнутся, опомятуются и ударятся в сожаление – как тогда смотреть им глаза? Нет, без устали следует претворять сердце в потребный им опыт!
– О дочке моей не беспокойтесь, она при ее начитанности не пропадет. Полистайте «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна, «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна, «Путешествие на корабле «Бигль», – внушал Шимон поборникам-охранителям затверженных норм. – Изучите труды Карамзина, Ключевского, Костомарова и Дарвина… Нострадамус, Эразм Роттердамский, Мэри Шелли любили странствовать.
Любавический ребе Шалом Дов-Бер был уверен в Ревекке, как в себе самом: не способна любящая дочь, олицетворяющая шестиконечно-звездчатую (как у снежинки) чистоту, бросить тень на родителей и сестер; перед талантом Горовица ребе преклонялся и не допускал грана опрометчивости в поступках музыканта, поверявшего каждый шаг (в том числе – не поддающийся при взгляде со стороны упрощенному пониманию) законами гармонии. Причислял Горовица к сонму милых вечности (принадлежащих ей и созидающих ее) альфа-омеговцев, сие предпочтение возложили на скрипача ветхозаветные зиждители и повелители времен: 175-летний Авраам, 180-летний Исаак, 969-летний Мафусал; 99 годков было Адаму, когда явился Бог и сказал: «Сделаю тебя отцом множества народов» (общий стаж жизни Адама составил аж – 930 лет, ему стукнуло 130, когда Ева родила второго сына), Сим (сын Адама) – дотянул до 912, Иову Многострадальному было отпущено 140 лет (чтоб успел наверстать годы, потраченные на нищету и болезнь) – вероятно, и эра Горовица, вдохновляемого и омолаживаемого создателями волшебных песнопений, измерялась бессмертием. К чертогам исчезновения земные полубоги приближаются по завершению возложенной на них миссии.
Сарра (солидарно с мужем и дочерьми Юдифью и Ханной) на свой лад препарировала отъезд младшенькой: коль Ревекка распорядилась началом судьбы столь нетрафаретно и непредрассудочно, надо всем (златопольцам, гуляй-польцам, парижанам!) извлечь урок – это очень хорошо, когда детям претят исхоженные пути! Поучительность побега, по мнению Сарры, заключалась и в том, что витавший (до отъезда) в доремифасольных эмпиреях Самуил Горовиц преподнес приятный сюрприз: опорожнил стоявшую в его комнате денежную вазу, куда складывал заработанное. То есть: не от мира сего скрипач-пианист («Таких, по наитию живущих, не задевают жала сплетен, пущенных проматывающими дни впустую, ничего не читающими невеждами и ханжами!») озаботился предстоящими тратами, обнаружил присутствие практической жилки. «Знаменательный шаг: они не будут голодать!» – предполагала Сарра. Шимону впору было самообольститься: «Педагогическая настойчивость жены исправила, да что там – преобразила музыканта!».
Но воинственный раж беснующихся выкрикивателей, опошляющих все, что выходит за пределы узколобых представлений, не убывал.
Прибывший из Петербурга Янкель Кацман передал Шимону вызволенную Распутиным в победоносцевском особняке всевидящую трость. Мудрец не ствл выспрашивать у неснашиваемого набалдашника: где Ревекка – куда надрывнее и нарывистее его беспокоили планы безутешного Васи Панюшкина, то гарцевавшего на каурой кабыле и блиставшего золоченой саблей, настрополявшегося ехать в Жмеринку и Житомир (где когда-то квартировал и концертировал Горовиц), то пришибленно нывшего о своей обманутой любви. Капли пота катились по лбу Василия. По щекам текли слезы. Одна его половина мечтала покарать скрывшихся, вторая – две антиподных крайности непостижимо умещались в единой телесности – громко всхлипывала, чем осточертела до истерических колик даже Нестору Сердечкину-Головорезову и Сереже Тарахтуну. Друзья, чтобы скрыть пляшущие веселые искорки в глазах, соболезновающе отворачивались и, вместе с некоторыми примкнувшими к закоперной группе отстаивателями справедливости, рвались в поход:
– Всех порубаем в кровавую лапшу! Кто не читал роман Льва Толстого «Анна Каренина» и эпиграф к нему: «Мне отмщение, и Аз воздам»? И воздастся!
Полицмейстер Воронихин, утихомиривая бурление, грозившее перекинуться на соседние населенные пункты и перерасти в пугачевский бунт, разослал депеши с приметами беглецов (больше для розыска ничего не сделал – за что вскоре поплатился), а Вася все окончательнее впадал в немилосердность. Он продолжал, сам не зная, зачем, дежурить в наблюдательном гнезде перед воротами начавшей пустеть усадьбы. Отток ходоков был вызван тем, что Вася переместил образ не помогшего ему Иоанна Предтечи в хлев и, унижая, затевал с отсеченной головой («Поделом тебе ее оттяпали!») и с начальником над хрюшками и хряками Сережей Тарахтуном долгие обсуждения об Анне Карениной и ее измене мужу.
Любавический ребе, огорченный оскудением паломничества в абрикосовый сад (где властвовал уже не Шимон, а антагонист Крестителя), наконец, не выдержал:
– Надо воспользоваться всевидящей тростью по назначению и отходить ею Васю Панюшкина ниже спины, может, Иоанн наставит безбожника на путь истинный. Иначе кончится плохо.
Но Шимон слишком сочувствовал своему воспитаннику:
– Самые мрачные прогнозы имеют свойство не сбываться...
И зашвырнул трость на чердак.
Настал день, когда в укоряющем отблеске глаз Крестителя, как в туманном зеркале, Вася Панюшкин узрел запыленную дорогу и мчащую по ней бричку. Он потянулся к сабле… Иоанн простер длань и удержал сумасбродца.
Вместо занятий, к которым Горовиц готов был приступить немедленно («Нам осталось доучить «Концерт до-бемоль для скрипки»), Шимон сделал дочери и музыканту внушение:
– Почему не поставили в известность о своих намерениях?
Горовиц ответил:
– Вы бы нас не отпустили.
Ревекку Сарра отправила в комнату под черепичной крышей. Протестовавшему Шимону бросила:
– Репутация невесты и репутация ее отца – не пуговицы, обратно не пришьешь.
Шимон не оспорил швейно-рукодельнический практичности супруги. Но свой взгляд на проблему выразил:
– Было бы к чему пришить. Уж точно не к кривотолкам.
Сарра сказала:
– Хуже того, что обсуждается, быть не может: «Горовиц клянется Шопеном, что пальцем до ученицы не доторнулся. Пальцем, может, и нет, а чем другим – неизвестно».
И прибавила:
– Самуил Григорьевич, поезжайте восвояси.
Самуил Григорьевич извлек из наволочки нотную скоропись, а из футляра – волнующую женски приталенную широкобедрую скрипку. Время замедлило течение и отступило – как воды моря во время бегства предков Горовица из Египта. Волшебные аккорды полонеза Агиньского коснулись тонкого слуха пребывавшей в тоске Ревекки и вынудили ее задуматься обо всем, что когда-либо внушал отец. Они выпорхнули за пределы абрикосового сада и овеяли подпаска Сергея Тарахтуна, гнавшего стадо буренок через овраг к лесной опушке. Тарахтун почесал кнутом спину и увидел себя парящим в бомбардировщике над лондонским Тауэром. Вася Панюшкин грохнулся с наблюдательного насеста и ушиб ягодицу. У Сердечкина временно прекратился понос и перестал бурчать живот.
Скрипичные переливы позвали в Златополь Лейбу Бронштейна (с увесистой пачкой прокламаций) и Мойшу Хейфеца (с колодой крапленых карт), оба, не отдавая отчет, куда и зачем едут, сели в поезд. Астроном Циолковский, повинуясь музыкальному повелению, вскарабкался на чердак самого высокого в Калуге дома и нашел на крыще упавшую звезду. Ботаник Симиренко на экспериментальной садовой делянке завязал новое цветье грушемандаринов. Сионист Арлазоров прислал из Германии телеграмму: вселенский концерт подтолкнул его к отплытию в Палестину…
Горовиц продолжил играть – теперь Листа, и время убыстрилось, как убыстряет ветер падение открепившегося от ветки и пустившегося в самостоятельное плаванье по воздуху не способного прикрыть наготу осени багряного или желтого фигового лоскутка. Родители Пинхаса Рахиль и Готлиб переглянулись и одновременно подумали, что стали в тягость сыну – раз он так долго не возвращается. Они ошибочно решили: Пинхас больше не нуждается в них, и одновременно, как в сказке, отбыли в мир дачных шезлонгоа и гамаков, сплетенных из яблоневых ветвей.
Ревекка увидела себя и Самуила Григорьевича постаревшими и разлученными навсегда. Горовиц улыбался и говорил: «Опасайся Томашевичей. Настоящая их фамилия – Чеберяковы…».
Пинхас проникся чарующей мелодией, находясь в Вене – в кабинете доктора Фрейда. И испытал к холодному выкуривальщику сигар почти родственную приязнь.
Скрипичная исповедь Горовица стала причиной неслыханного притока пилигримов, запрудивших вокзальный перрон, центральную площадь и прилегающие к усадьбе Шимона улицы. Став центром притяжения меломанов, приезжавших и приходивших – из городов и станиц, деревушек и поселков – Златополь пережил неслыханный культурный бум. Сбылась мечта любавического ребе: в толпах не затихали разговоры – о битломании Южной и Северной Жмеринки и джазе непередаваемо прекрасного Бердичева. Глядя на разраставшиеся людские потоки, любавический ребе Дов Бер Шалом стал подумывать: не провозгласить ли столицей еврейского царства абрикосовую житницу – Бухара и Биробиджан уже не казались ему столь привлекательными, как прежде.
О готовящемся пленении виртуоза Ревекка узнала от шептавшегося с ней через запертую дверь кучера Моисейки. И – согласилась на бессрочное пребывание на хлебе и воде, на покаяние, на обет вечного молчания и безбрачия – лишь бы Горовица не заточали под арест.
Шимон предпринял все от него зависевшее, дабы музыкант уехал беспрепятственно .
– Коммерсант жертвует малым ради большого навара. Картежник рискует синицей (а то и курицей), ловя журавлиный прикуп. Философ осознанно предпочитает часть – целому. Женщины рожают, обрекая детей на тяготы, потому что не задумываются о последствиях. Но что движет бессребрениками? – озадачился он. И объявил (в промежутке меж Хабанерой Бизе и «Венгерским танцем» Брамса): – Призрак моей смерти маячит на пороге.
Ревекка зарыдала. Подхныкивали Сарра и обе старшие дочери. Просили Шимона повременить. Будто это было в его власти!
Симфонические потоки уносили подробности путешествия виртуоза и его ученицы в прорву прошлого. Воронихин порвал ордер на задержание продолжавшего изливать чувства (теперь ариями Массне) Горовица.
К Ревекке пожаловал давно не дававший о себе знать приемный сын Иоахима Збарского – миллионера, жертвовавшего немалые суммы на прославленную златопольскую гимназию. Отец и сын – с правосторонним сердцем – прикатили в лакированном экипаже. «Сахар!», «Цуккер!» «Рафинад!» – было написано на его бортах. Увидев щеголеватого богача, коренные жители и гости скромного городка зашептались: будущее Ревекки предрешено.
Но когда пожилой и молодой Збарские наведались к выпущенной из подчердачья Ревекке с ослепительным букетом белых орхидей, Шимон и его дочь не слишком вежливо попросили гостей не мешать слушать музыку.
– Трудно поверить, – пытался заворожить Ревекку Збарский-младший. – Четверть века назад в России слыхом не слыхивали о сладко-бело-кристаллическом порошке и его спрессованном в кубики собрате – рафинаде. Не были известны ни «пиленый», ни рассыпчатый сахар, ни сахарная пудра, ни широко распространившиеся ныне «сахарные головы». Отхватывать от них осколочки следует специальными острыми щипчиками…
Ревекку тяготили необязательные познания. Збарский продолжил заглушать льющийся мотив:
– Прежде, если хотели полакомиться, съедали грушу или абрикос. Или ложечку меда. О непревзойденном источнике гурманского наслаждения – свекле – отзывались свысока. О содержащемся в ней концентрате сладости не ведали...
Птенчик-повеса излагал, как отец его отца (Иоахима Збарского) Гирш привез семена чудо-свеклы из Баварии. Несколько семей объединились, желая богатеть добычей сахара, засеяли поля, прежде занятые гречихой, построили маленький заводик. Вместе с Гиршем в переработке клубней приняли участие отец Сарры Наум, отец Левушки Бронштейна Давид и старший брат Менахина Бейлиса Барух… Компаньоны с выгодой поделили доход. И сбыли производство – очень вовремя: потому что зазевавшиеся земледельцы опомнились и начали вгрызаться в сахаросодержащий овощ.
Горовиц исторгал шедевр за шедевром. Вася Панюшкин отер рукавом лик Иоанна Крестителя и вернул его в комнату на первом этаже. Внимая Григу и Сибелиусу, он, круг за кругом, на каурой кобыле, огибал усадьбу Шимона дозорным патрулем.
Подпасок Тарахтун, очнувшись, обнаружил: запропастилась корова Нюша, и долго шукал ее в чащобе.
Горовиц истекал симфонией Дворжака №9 си минор и сменившими ее рапсодиями Паганини. Он выпрашивал свидание с Ревеккой. Но Сарра, призвав в помощники Иоахима Збарского и его пасынка, заняла Ревекку нескончаемой светской беседой. Сестры сочувствовали младшенькой. И соглашались с отцом:
– Быть Пинхасу ее мужем!
Под переворачивавшее душу скрипичное соло Пинхас – то ли во сне, то ли наяву – попрощался с доктором Фрейдом и переступил порог своего опустевшего холодного дома в Златополе. Мышиное семейство возложило к его ногам веночек поблескивающего браслета. Сердце наполнилось нечеловеческой печалью.
Интермеццо Горовица оборвалось. Пинхас понял, что не должен был покидать родителей.
Урядник Воронихин отпустил Самуила Григорьевича на все четыре стороны: музыкальная исповедь заставила околоточного надзирателя (как и всех, кто ее услышал) по-новому оценить жизнь. Каждый, знавший что-либо предосудительное о соседях и родственниках, начисто забыл плохое, и оно кануло безвозвратно…
Видевшие сцену прощания не могли сдержать рыданий: пиликатель Самуил Горовиц, в стоптанных ботинках и вытянутых на коленях брюках, в запыленном оранжевом фраке, шевелюра развевалась на ветру, шел по тропинке через поле овса, его сопровождали взявшиеся за руки плакальщицы – Ханна и Юдифь.
На краю поля ждал Вася Панюшкин с подводой. Музыкант сел на нее бочком, свесил ноги, небритым подбородком он прижимался к потертому приталенному гробику – деревянно отпочковавшему от тела и вместившему готовую к смерти душу и несбыточные надежды, которые загадочным образом превращались в музыку.
Тощая лошаденка, понукаемая Васей, повлекла Самуила Горовица к железнодорожной станции. В воздухе закурчавились снежинки и похолодало. Странники приходили в чувство и недоумевали: почему мы здесь? Что за лабух нас очаровал?
Лева Бронштейн обнаружил себя ребячливо скачущим по абрикосовому саду на всевидящей трости Шимона Барского, как на воображаемой лошадке. Мойша Хейфец – посиживающим на ступенях покосившегося дома Пинхаса Фальковского. Пинхас как раз выходил из дома с мышеловкой-клеточкой, в которой преспокойно жевал корочку крохотный мышонок. Хейфецу надо было объяснить свое присутствие на чужом пороге. Он извлек из кармана колоду карт и предложил:
– Сыграем?
Читайте также: Божья Копилка-3