На сцене безутешная вдова, скоро год честно рыдающая по мужу-изменщику (роль его портрета исполняет безмолвная фотокарточка Чехова в траурной рамке).
А вот припёрся и Медведь — безжалостный кредитор (русский барин по сословию, русский мужик по натуре). Держа бокал как бы шампанского, он, не добившись у дамы денег, в отчаянии произносит «Их штербе!» — и та часть зрителей, которая хорошо училась в школе, взвизгивает от смеха, ибо это — крутой театрально-водевильный и совершенно чёрный юмор: комический герой повторил последние слова умирающего Чехова (который, кстати, 2 июля 1904 года за секунду до того, как сказать «Их штербе» (я умираю), попросил бокал шампанского).
Ну, а раз Чехов перед смертью зачем-то заговорил по-немецки, то и актёры Панкова позволяют себе то и дело переходить на дойч, а заодно на франсе. Для необразованной публики (для нас) в эти моменты на табло появляются титры — как в опере, чтоб хоть кое-как понять, о чём поют.
Тут, в «Медведе», кстати, поют великолепно — ах, какое летящее сопрано! ах, какой бархатный бас!

Герой с героиней постоянно на сцене — все четверо: двое земных (водевильных) и двое небесных (какими они сами себе кажутся, какими они себя воображают). Пожилой, лысоватый, грузноватый Медведь и статный гигант, демонический красавец — душа Медведя. Земные бранятся, небесные поют.
Ничего не стоило найти оперную Агафью Тихоновну того же возраста, что и водевильная, но тут, конечно, юное, тонкое существо — это героиня в своих мечтах.
Оперные двойники есть у нас у всех (у тонко чувствующих). У каждого есть в душе оперное «Я» — оно всегда на сцене, даже если это коммунальная кухня; всегда перед публикой — даже если это всего лишь кухарка. Всегда на сцене Лоханкин братьев Стругацких, электромонтёр Гоголя, Хлестаков Чичикова…
Этот спектакль — любимый племянник важной дамы-аристократки по имени Опера, гуляка, весельчак, насмешник. Она его любит за блеск и стиль, ну и за то, что в «Медведе» — как и положено в опере — не только слова, но и каждое движение сопровождает музыка — каждый шаг, каждый жест, каждый взгляд; пальцы дрожат — колокольчики звенят.
…Портрет покойного мужа тоже раздвоился, портретов тоже два. Рыдает вдова, навалившись грудью на стол-катафалк, как на гроб, а на этом чёрном столе две траурные рамки: в одной фотокарточка Чехова, в другой — Немировича-Данченко; в одной драматург, в другой — его сценический дух… И даже у маленькой писклявой флейты есть в мечтах грандиозное второе «Я»; мечта исполняется — флейте достаётся здоровенная туба, бейный бас.
Добавочное наслаждение — видеть, как общаются между собой две ипостаси одного человека: земная плоть говорит со своей небесной душой. В пьесе для этого реплик нет, говорить друг с другом словами души с героями не могут (тем более они ж не душевно больные, чтоб вслух…). Но мы всё понимаем, мы видим их мысли, ибо видим то изумленные, то недоумевающие, то гневные глаза. Лучше всяких слов порою взгляды говорят.
Зато героям подарены реплики из «Чайки», из «Трёх сестёр», «Лёня, зачем так много пить?! зачем половым говорить о декадентах?!». Эта оперная театральность русской души сыграна гениально.
Цирковая смешная и остроумная игра с мебелью: стол — катафалк; стулья разлетаются в щепки, когда Медведь в гневе грохает ими об пол. Оркестр — изумительные музыкантши с восхитительными личиками. Они не только замечательно играют на всём (клавесин, барабан, флейта, виолончель, арфа), но и успевают играть лицом — взволнованно переживают всё происходящее, глаз не сводят с героев (ну просто ангелы, ангелы-хранители). А слуга, задёрганный хозяйкой, замученный режиссёром, валится в изнеможении на медвежью шкуру, нежится и с лицемерным пафосом метёт классическую пургу:

— Человек должен трудиться, работать в поте лица, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встаёт чуть свет и бьёт на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, лучше быть простою лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встаёт в двенадцать часов дня, потом пьёт в постели кофе, потом два часа одевается... о, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать! В Москву! в Москву!! в Москву!!!
Но тут он вспоминает, что сейчас опять предстоит петь по-русски, по-немецки, по-французски, по-итальянски; вспоминает, что он и все три сестры давно уже в Москве; и для невежд, которые даже перевод читать не успевают, с горечью признаёт:
в этом городе знать три языка — ненужная роскошь.
Боже мой, как рад на том свете Антон Павлович, видя, что его унылый с виду «Медведь» — занудный, буксующий — наконец поставлен с таким блеском и остроумием, которые превзойти вряд ли когда-нибудь кому-нибудь удастся. Публика — не дура, орала «браво» и требовала продолжения банкета. И правда, жестоко: такое счастье — и так скоротечно.
Хорошего всегда мало. Всего через 1 час и 20 минут эта Прямая линия Театра с народом кончается, и весь народ, все 160 человек, возвращаются с небес на землю, не замечая, чем она покрыта — асфальтом или плиткой, потому что получили то, чего хочет каждый, — счастье.
«А мне?! — вскрикивает доверчивый читатель. — А я?!» Утешьтесь: вам тоже достанется. 160 мест на 16-миллионный город… Лет через 200–300 (дело не в сроке) придёт и ваша очередь, и ваша жизнь на час с небольшим станет невообразимо прекрасной, изумительной, и если до сих пор вы не знали, не могли понять: зачем живём? зачем страдаем? то теперь знаете: вас ждёт русский Медведь в подвале на Соколе — там, где публику когда-то сводил с ума гениальный старик Борис Покровский, покинувший Большой ради этого подвала. Это он полвека назад сделал чудо: в глубоком, низком, тесном бомбоубежище оперные спектакли шли лёгкие, летучие, а в просторном, высоком Большом — тяжеловесные (груз традиций давил, что ли?). И вот теперь это снова бомбоубежище — от бешеного города и безобразных новостей.
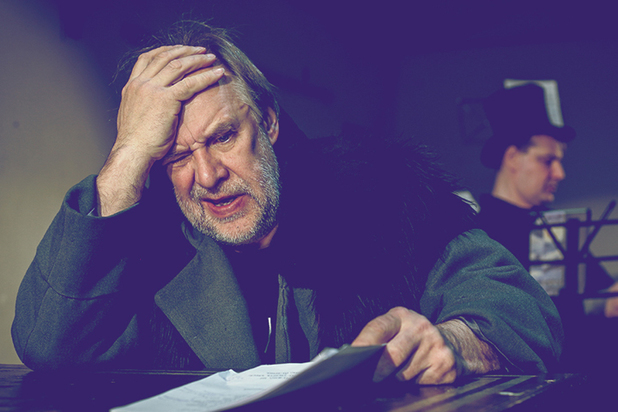
…«Медведь» — скучный водевиль. Прочтёте — вряд ли улыбнётесь. Но ведь он не для чтения написан, а для сцены, для игры. Прочтите ноты: «фа-диез, соль, ля, соль, соль в тональности до-минор» — скука. А ведь это «Очи чёрные». Уметь надо.
— Бурбон! — орёт на Медведя верная покойному мужу вдова, и ты вдруг понимаешь, почему перед началом публике в фойе наливают унцию «Бурбона». А следом начинаешь понимать, что не случайно верную вдову играет Интердевочка, да-с. А если не понимаешь, то и чёрт с тобой. (Имена артистов вы прочтёте в программке, придя в театр, потому что если сейчас написать «Яковлева, Феклистов…», то, когда через 200 лет дойдёт ваша очередь попасть на «Медведя», либо вы уже забудете их имена, либо играть будут другие артисты.)

...И вот скандал, и летит через всю сцену из кулисы в кулису девчачий оркестрик (это он, тот самый надежды маленький оркестрик под управлением любви). Летят по сцене от портала до портала и герои, роняя лампы, ломая стулья, теряя перья. И зритель слышит сквозь этот грохот мотив любимый — романс знакомый…
Ямщик, не гони лошадей!
Мне некуда больше спешить,
Мне некого больше любить —
Ямщик, не гони лошадей.
Душа героини — бабочка траурница, порхает, порхает, и вдруг этот грубиян-Медведь-бурбон прихлопнул её со зверской силой, скотина. А потом оказалось, что и его душа — такая же бабочка, всё ещё живая, хоть и траченная молью, то есть жизнью, ибо 12 женщин бросил этот плешивый, а 9 бросили его… Ё-моё! так это, выходит, 22-я?! Перебор! Сдавайся!
— Так про спектакли не пишут!
— Да, цель этих заметок вовсе не описание спектакля. Цель — вызвать у вас зависть.
Я был в театре, хлебнул «Бурбона», смотрел «Медведя». В подвал вползаешь, как Уж усталый, а там находишь Седьмое небо. О, Сокол, Сокол, твой рай небесный — подвал подземный на Ленинградке.






















