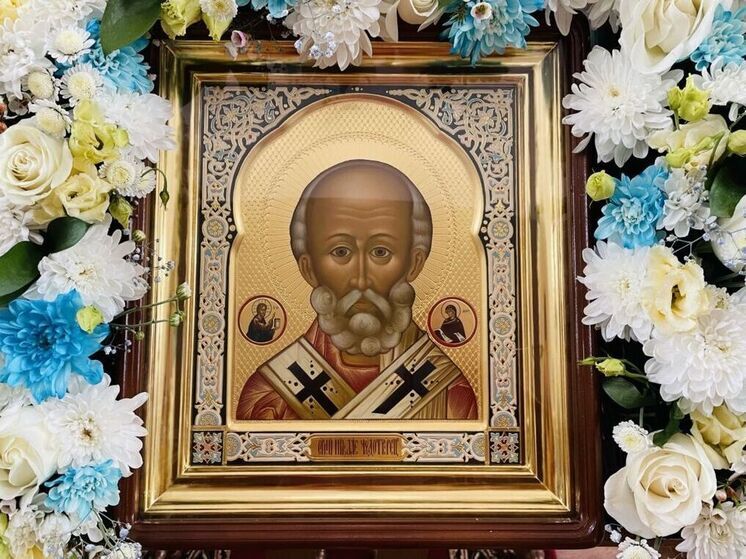Перенос мюзикла с киноэкрана на сцену – не редкость для Голливуда-Бродвея. Примеров миллион: от классики типа «Поющие под дождем» до относительно недавней «Русалочки». Впрочем, и для далекой от Голливуда и Бродвея России опыт «Стиляг» не первый: есть театральные версии «Веселых ребят», «Обыкновенного чуда», «Бременских музыкантов». И все же спектакль Театра Наций действительно чем-то близок бродвейскому стандарту: открытый кастинг, на котором пробовало свои силы огромное число претендентов, в результате чего сложилась отличная команда мюзикловых артистов, равно хорошо поющих, танцующих, а порой даже играющих на музыкальных инструментах. Вот эта актерская честность, которая, да простят мне адепты русского театра, так отличает бродвейского «многостаночника», присутствует в «Стилягах» в полной мере.
В финальном касте «Стиляг» прекрасно реализовали себя студенты ГИТИСа мастерской Лики Руллы – Эмиль Салес (Мэлс) и Наталья Инькова (Катя). В другом составе (Отс — Авратинская тоже хороши), и это говорит о том, как вовремя был создан этот курс, на котором артистов мюзикла готовят настоящие мастера жанра. Эмиль Салес для роли Мэлса освоил технику игры на саксофоне и на трубе. Остальные актеры - Анастасия Тимушкова (Польза), Елизавета Пащенко (Бэтси), Александр Волочиенко (Боб), Станислав Беляев (Фрэд), да и все участники ансамбля - молодые, пластичные, красивые - существуют в спектакле с тем самым драйвом и внутренней свободой, о которых и рассказывает эта история.

Сюжет построен на гиперболизированном конфликте между двумя образами жизни: советским - замкнутость, уныние, сплошные запреты и маршевый коллективизм, доведенный до тупости, и как бы американским – свобода, раскованность, многоцветность, рок-н-ролл, доведенный до идиотизма. В общем, два мира — два Шапиро. Этот конфликт позволяет выстроить забавный и динамичный сюжет, лишь слегка обремененный идеологическими, как бы «антисоветскими» кодами, которые вряд ли могут претендовать на некий серьезный «социальный» аспект. Идеология здесь – не как в «Кабаре», а скорее, как в «Вестсайдской истории», где противостояние может быть любым – от вражды семейных кланов до неприятия между евреями и католиками (таков был первый вариант либретто этого великого мюзикла Бернстайна) или белых с пуэрториканцами, чем дело и кончилось.
В «бродвейском» векторе мыслят здесь не только артисты, но и режиссер, композитор, хореографы Ирина Кашуба и Анатолий Войнов. В полном соответствии с мировым опытом постановщики готовят к концу первого акта трюк: артисты взмывают под потолок с помощью лонж и начинается бесподобный воздушный танец. Каждый номер мюзикла, построенный на каком-нибудь старом российском хите, значительно переработанном Заготом и снабженным кавертекстом, адаптирующим его к сюжету, - это роскошный номер. Причем не кабаретный, а драматургически мотивированный и изобретательно придуманный хореографами. Вся эта красота, конечно, отсылает зрителей к оскароносному фильму «Ла-ла-лэнд», где, как известно, были танцы под звездами.
Работа Евгения Загота и оркестра сделана на высочайшем уровне. Шесть живых музыкантов в сочетании с компьютером и записанными треками составляют многозвучный, разнотембровый оркестр. Хиты «Чайфа», «Наутилуса», «Колибри», «Браво», Майка Науменко, Федора Чистякова претерпевают жанровые и стилистические метаморфозы, полифонически переплетаясь с темой массовой песни «Москва Майская», которая становится лейтмотивом советского тоталитаризма. Пестрый набор хитов в результате приобретает концептуальное единство.
Пожалуй самое слабое звено «Стиляг» - его внешний вид. Художник Тимофей Рябушинский построил на сцене стенку с графити, которая и стала основой сценографии. Маляры красят ее, замазывая фрагменты типичной соцартовской мозаики на тему героического труда. Она же – стена коммунальной кухни, или фасад танцевального клуба мечты, где герои танцуют буги-вуги. Костюмы Анастасии Бугаевой, выглядят чересчур клоунскими. Даже в допустимой гиперболе, трудно представить, что нормальный человек, рвущийся к фэшн-самореализации, может надеть прикид в такой безвкусной цветовой гамме. Впрочем, возможно, это сделано сознательно: стиляг таких в природе не существовало – ни в СССР, ни, тем более, в Америке. Тем не менее в аляповатости костюмного ряда цвета «вырви глаз» нет общей гармония, а лишь безвкусие. Не смогли художники найти и визуального решения финала: выход всех участников в белоснежной одежде не сказал зрителю ни о чем и явно проиграл финалу фильма, где по Тверской под песню Шахрина «Шаляй-валяй» идет огромная толпа хипстеров всех времен и мастей – от стиляг до эмо и панков.