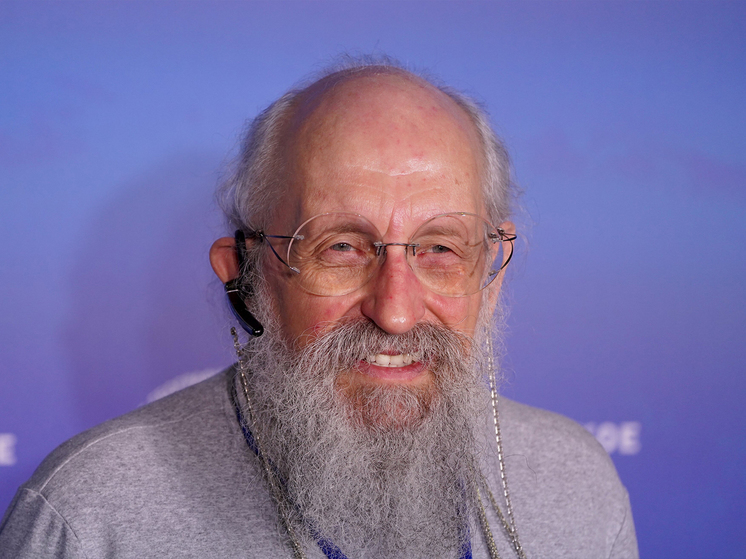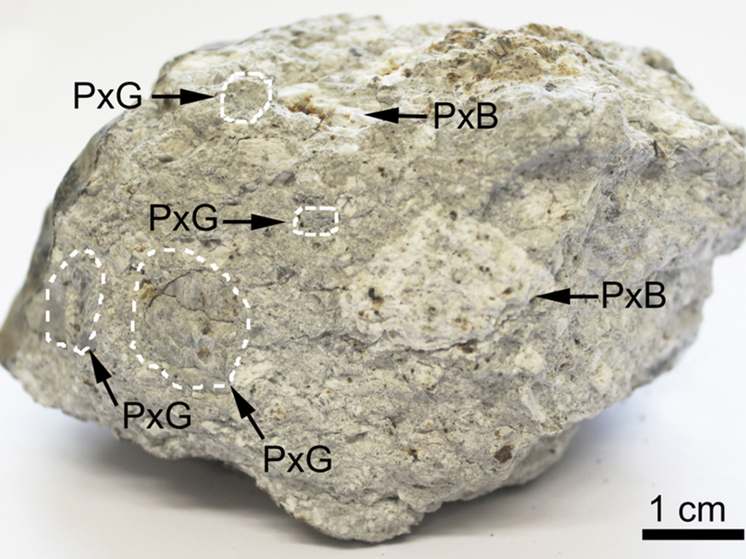«Очень сожалею, но в каптерке я не работал»
— Значит, книжки любите, да?
— Есть такой грех. По преимуществу старые, иллюстрированные, редкие книжки, в чем мы схожи с Павлом Гусевым, вашим главным редактором. Я родился и жил в провинции, в городе Дзержинске Горьковской области. У нас была трехкомнатная квартира, и в ней шесть книжных шкафов. У папы было 11 изданий «Евгения Онегина», самых разных: старинных, более свежих, иллюстрированных одним художником, другим. Поэтому, конечно, матрица у меня, как у всех, идет с детства. Я сейчас занимался подготовкой выставки к 175-летию Анатоля Франса. Знаете, он тоже рос в подобной среде, в семье владельца букинистической лавки, среди книжных редкостей, изящных переплетов, и эта тема у него постоянно присутствует в его романах. Среди его героев или библиотекарь, или букинист, или переплетчик, и с ними происходят разные приключения. Так что не я один был заражен в детстве этой болезнью.
— Вы согласны с тезисом, что Советский Союз был самой читающей страной в мире?
— Понимаете, в СССР действительно издавалось по тиражам рекордное количество копий экземпляров ежегодно, но если провести селекцию и убрать оттуда материалы съездов КПСС, отчеты о пленумах ЦК КПСС (это все издавалось миллионными тиражами), избранные статьи и речи членов Политбюро…
— А «Малую землю», «Целину» и «Возрождение» вы сюда не относите?
— Не отношу, все-таки это литературные произведения мемуарного характера, хотя они были изданы совокупными тиражами примерно по 10 млн каждое. А вот если мы отбросим то, что называется общественно-политической литературой, то выяснится, что современная Россия может не склонять колени перед РСФСР. Мы сейчас издаем в год порядка 120–130 тысяч наименований книг общим тиражом примерно 450 миллионов экземпляров. Конечно, произошло 30-процентное падение за прошедшие 5–10 лет, но тем не менее цифры внушительные. Другое дело, что на фоне гигантского разнообразия тиражи очень невысокие. Ушла эпоха, когда стотысячный тираж двухтомника Марины Цветаевой улетал вмиг и на черном рынке появлялся у нас в Горьком за 70 рублей.
— Не знаю вашу трудовую биографию; наверное, сразу после школы вы поступили в институт. Вы же не были работягой? В каптерке не работали, дворником тоже?
— Работягой? Нет, не был. Я понимаю, что сейчас работа в газовой котельной, вспоминая Гребенщикова, Цоя и всех прочих, приравнивалась бы по меньшей мере к ордену Почетного легиона. Я очень сожалею, но нет, в каптерке не работал.
— А я работал — в типографии «Правда», в переплетном цехе. Мы выпускали классические сочинения «Библиотеки «Огонек», и тиражи там были порядка двух миллионов. А с другой стороны: вот работяги, тот самый глубинный народ, о котором с восхищением писал Сурков…
— Я такой же глубинный народ! Вы-то все-таки в Москве здесь работали.
— Так вот эти люди воровали по-черному. Женщины засовывали книжки себе в лифчики, в трусы, мужики тоже в трусы. Милиция была в доле и в курсе. Эти ворованные книги люди в основном вообще не читали, а продавали. Помню, один говорил: а я себе уже на эти книги машину купил… и дачу. Вот что такое самая читающая страна в мире.
— По поводу воровства… Воровали всё. Кто работал на консервном заводе — воровал консервы. Кто работал на швейной фабрике — воровал те трусы и лифчики, в которые потом женщины запихивали собрания сочинений «Библиотеки «Огонек».
— Что охраняем — то и имеем.
— Конечно. Вы, кстати, может быть, не в курсе, но я поддерживаю связь с некоторыми умершими библиофилами высокого класса, и они мне сказали, что там, на небе, воровство книги считается наименее тяжелым преступлением по сравнению с воровством всего остального.
— Украсть библиотечную книгу — понимаю, кто не без греха. Но здесь-то воровали в промышленных масштабах, на продажу.
— Воровство книг, хлеба, продуктов питания для того, чтобы себя прокормить, на том свете считается нетяжелым преступлением. Так что и с этим грехом можно попасть в рай. У меня абсолютно достоверные сведения, поэтому простим тех мужчин и женщин, которые воровали томики «Библиотеки «Огонек».
— Но хоть бы они это читали. Так нет!
— Ностальгия по самой читающей стране в мире есть, но не все так безнадежно, как мы пытаемся иногда себе представить. Книжная индустрия переживает трудные времена, это вообще тяжелый бизнес и не бог весть какой рентабельный. Владельцы книжных магазинов — не миллиардеры, которые на яхте ездят в отпуск вокруг Европы или по островам Карибского бассейна. Содержать книжный магазин, особенно большой, дорогое удовольствие: коммуналка, зарплаты, особенно в Москве, — это высокая себестоимость. В результате книжный магазин вынужден делать большую наценку, книга становится очень дорогой. Мы все за это переживаем. Если вы делаете книжный магазин на периферии, туда мало кто ходит, а если в торговом центре, то вы вынуждены ставить то, что гарантированно будет продаваться: календари, книжки по кулинарии, йогу для беременных и больных насморком, «Как похудеть на 5 килограммов за 4 дня»… И никогда вы не сможете поставить туда нон-фикшн — не разберут. Если же вы захотите сделать полноценный книжный магазин в центре города, то арендодатель закономерно вам скажет: у нас ставки аренды высокие, потому что, кроме вас, здесь еще хочет быть обувной магазин, ювелирный магазин, банк и контора «Рога и копыта», предположим. В любви к книге многое зависит от семьи и в большей степени школы. Ведь русская классика вся стоит в школьной программе, и как дети будут воспринимать «Горе от ума», «Мертвые души», «Войну и мир», «Отцов и детей», лирику Пушкина — во многом зависит от преподавателя.

— А я вот иногда слушаю по радио господина Доренко. Так вот он говорит: ну кому сейчас нужна классика, это все устарело, пора ее на свалку истории. Знаете, и с Доренко многие согласны.
— Получается, что учитель литературы противостоит и популярному журналисту Доренко в том числе, как я сейчас узнал.
— Ну а как Маяковский говорил: сбросить Пушкина с корабля современности. Так и сейчас.
— Это одна из точек зрения, я бы ее не преувеличивал. И если мы посмотрим на театры, где ставятся классические произведения, то люди туда ходят. И в Малый театр ходят, где ставят в самом классическом варианте.
— Потому что Малый театр у нас такой один. А представьте, если бы все театры так ставили! Знаете же, что в 30-е годы систему Станиславского насаждали как картошку. К чему это привело?!
— Но мы же о книге, она находится в другой конкурентной ситуации. Конечно, когда вы работали в типографии, а я рос в городе Дзержинске, в конкуренции с книжками что находилось? У вас в Москве много чего было. В первую очередь, те же театры, скажем, Театр на Таганке.
— В мое время Любимов уже вынужден был покинуть страну и свой театр, так что Таганка тогда переживала кризис. И вообще был застой.
— И все же альтернатива была. А у меня? Кинотеатр «Родина» и кинотеатр «Юбилейный», где показывают «Фантомас разбушевался» и «Высокий блондин в черном ботинке», которых мы смотрели по 10 раз. Три театра, особенно ничего из себя не представляющих.
— Телевизор?
— А что там показывали, помните? Ну, хоккейный турнир на приз газеты «Известия»… Я был небольшой поклонник хоккея. Один раз в неделю «Клуб кинопутешествий» и, может быть, какой-нибудь «Музыкальный киоск». А значит, книга была самоценна. Вы там находили друзей, героев, антигероев, эмоции, страсти, любовные треугольники. И не было еще никаких сериалов. А сейчас… Восемь часов на сон оставляем. Восемь часов на учебу или на работу — это как минимум. Дорога домой, дорога из дома, обед/ужин/завтрак… В результате за свободное время, которое скукожилось до 3–4 часов, идет гораздо более жесткая конкуренция, это не поболтать с приятелем по телефону. У вас есть «Айфон» или другой девайс, а там целая вселенная, там ваш мир, там ваши друзья, там бесконечная переписка — всё там.
— Знаете, у меня в переходном возрасте в конкурентной борьбе с книгой победил еженедельник «Футбол—Хоккей».
— А теперь что сказать ребенку: дорогая дочка или дорогой сынок, значит, ты всю эту вселенную отодвигаешь и читаешь три часа в день «Отцы и дети». Это сложная дилемма. Но я всегда говорю: книга должна в этом мире хотя бы присутствовать.

«Один день Ивана Денисовича» лежал у папы в потайном ящике
— Опять хочу вас опустить на землю. Когда вы последний раз ездили в метро?
— (Михаил Сеславинский встает, подходит к своему рабочему столу, достает из портмоне карту «Тройка» и гордо показывает мне.) Ну, просто, чтобы не делали из чиновников исчадий ада. Я последний раз когда ехал в метро, в вагоне посчитал, сколько видел там читающих людей. Их было шесть человек.
— Читающих что?
— Разное. Кто-то журнал, кто-то книгу. Но книги были!
— Я вижу другое: сидят люди и повально уставились в свои смартфоны. Книги — это минимум, ну разве один какой-нибудь чудак. А вот когда я ездил в нью-йоркском метро, в сабвее, то там книги люди читают гораздо больше.
— Да, действительно, у нас проблемы с чтением есть, проблемы с литературой есть, но сказать, что произошла катастрофа… Мы сейчас с вами договоримся до того: что это за дети, что они слушают, что это за рэп…
— Нет, мы так не будем, как старики на завалинке. Но вы же знаете эти адаптации, когда «Анна Каренина» или «Война и мир» специально для таких детей выходят на трех страницах. Им же надо ЕГЭ сдавать… Хотя ЕГЭ — это вообще отдельная тема.
— Наша учительница по литературе говорила: не смейте переписывать сочинение, я знаю все, что ходит по рукам. Поэтому в микроскопическом виде сайт реферат.ru существовал тогда даже в глубокой провинции, все это было.
Но я наблюдал одноклассников своей старшей дочери, сейчас наблюдаю периодически одноклассников своей младшей дочери, и у меня остатки волос не встают дыбом никогда. Это хорошие дети.
— А может, ваши дочери учатся в спецшколе?
— Это не так важно. Я же наблюдаю еще и детей своих коллег по работе, каких-то знакомых. Вопрос не в спецшколе. Просто есть масса хороших детей, и я не брошу в них камень.
— Есть такой термин «книжный мальчик». Как правило, это негативная коннотация, потому что этот мальчик весь погружен в книги, а жизни не знает. Выходит в реальную жизнь, весь такой воздушный, романтически настроенный, и там с ним случается большой облом. Так книжный мальчик это не вы?
— Я вообще сторонник того, чтобы человек проходил через трудности и испытания в своей жизни, это все-таки формирует личность и закаляет характер. Жить в рафинированных условиях, по-моему, не очень хорошо. И у меня было в жизни достаточно трудностей…
— Именно из-за того, что вы были книжным мальчиком?
— Я был книжным мальчиком, но не в том плане, как вы говорите. Да, мы с моим приятелем были записаны в 5–6 библиотек, да, перечитали все, что только возможно, но при этом я занимался общественной деятельностью, был секретарем комитета комсомола школы. Это отразилось на формировании карьеры потом, особенно в перестройку.
— Комсомольцы в перестройку преуспели, особенно в бизнесе. Помните Ходорковского? Да, а как же двоемыслие?
— Мы не были на съездах и не скандировали «Ленин! Партия! Комсомол!», мы занимались организацией городских дискотек, каких-то конкурсов, это да. Но «Один день Ивана Денисовича» лежал у моего папы под газетами и журналами в потайном ящике…
— И он вам давал его читать?
— Еще со школы это было одно из любимых моих произведений. Знаете библейский принцип: когда тебе плохо, иди к тому, кому хуже. Вот я прихожу из школы, у меня какие-нибудь неприятности, плохое настроение. Я достаю «Один день Ивана Денисовича»… Иногда в холодильнике ничего не было, я брал черный хлеб, наливал в блюдечко подсолнечное масло, солил, это было очень вкусно. И когда я читал «Ивана Денисовича», понимал, что все в моей жизни не так уж и плохо.
— И после этого с вами ничего не происходило? Помню, я стал слушать по ночам «Радио Свобода» в 1983 году, когда наши сбили южнокорейский самолет, а потом выходил на улицу, и у меня просто был слом сознания, я становился лицемером, циником: думал одно, говорил другое, а делал третье. Это был ужас! И я перестал слушать «Свободу» уже до самой перестройки. А вы, значит, после «Ивана Денисовича» не сошли с ума?
— Да нет, у меня все было очень органично... В 1982 году было 90 лет Марине Ивановне Цветаевой, и я выпустил стенгазету в институте, где учился на историческом факультете. Там фломастером переписал стихи Цветаевой, и в том числе одно стихотворение, как мне казалось, самое безобидное из ее цикла «Лебединый стан», посвященное Сергею Эфрону, который воевал на стороне Белой армии. И вот там такие строчки:
Я помню ночь и лик пресветлый
В аду солдатского вагона.
Я волосы гоню по ветру,
Я в ларчике храню погоны.
Вот это «я в ларчике храню погоны» оказалось весьма рискованным. Через два дня стенгазету сняли. Я, молодой дурак, написал: «Кто снял стенгазету с Цветаевой, прошу вернуть Сеславинскому в 331-ю группу».
— То есть сами разоблачились перед партией?
— Да. Потом, как я выяснил, этот вопрос со стенгазетой обсуждался на заседании парткома факультета, но кто-то из профессуры меня спас. Даже выговора не получил… Так вот, возвращаясь к жизненному комфорту, прохождению через трудности и т.д. Я часто думаю, наблюдая за жизнью самых состоятельных людей России, их отпрысков, и вижу, что постепенно, как мне кажется, значительная часть их начинает осознавать, что по-другому надо формировать своих детей. Эпоха, когда «Бентли» на 18-летие, бизнесджеты на каникулы, — это постепенно будет уходить. Ведь на Западе так и произошло: там люди свои миллиарды детям порой не передают. Потому что непонятно: счастье ли это. Даришь ли ты счастье своим детям, когда передаешь им эти десятки миллиардов? Скорее всего, нет.

«Д'Артаньян — не мой герой»
— Есть такая футбольная поговорка: скажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда. Переиначим: скажите, какие у вас любимые литературные герои, и я скажу, что вы за человек. Я бы хотел перечислить своих литературных героев и сравнить с вашими. У меня это Остап Бендер, Дон Кихот, Буратино, Мартин Иден и Саня Григорьев из «Двух капитанов». А у вас?
— Честно говоря, я такой список не формировал. Но если попробовать назвать шорт-лист, я бы, наверное, начал с графа Монте-Кристо. Следующий — Робинзон Крузо, как испытание, умение прожить, сформировать свою жизнь на необитаемом острове.
— А д'Артаньян?
— Вы знаете, «Три мушкетера» как роман — да, а д'Артаньян как герой — наверное, нет. Не мой герой.
— А что, русская литература не оставила какого-то впечатления?
— Ну, наверное, Пьер Безухов.
— Почему?
— С его неуклюжестью, одиночеством душевным в этой среде, искренними чувствами, то кутежами, то горестями… Еще Евгений Онегин. Ну и Остапа Бендера я бы, конечно, не забывал.
— Да… «Вы оцените красоту игры». Это Юлий Ким про него так написал. А вот Высоцкий пел: «значит, нужные книги ты в детстве читал», помните? Вот как не предать те идеалы, которые ты в детстве, в юношестве впитываешь?
— Я все-таки, конечно, конформист, признаю.
— Спасибо за правду. А в вашем кресле, наверное, по-другому и невозможно.
— Я не Дон Кихот, это абсолютно точно.
— Но как стремление — разве нет?
— В моем возрасте уже нет. Уже, конечно, становишься гораздо более консервативным. Но для меня вселенная разбивается на две составные части: семья и все остальное. Поэтому задача номер один — пытаться создать идеальный мир для своей семьи. Чтобы ты себя чувствовал комфортно… Знаете, есть такое английское выражение «love makes a house a home» — «любовь делает из дома (как здания) дом (как семья)». Для меня семья — это самое важное. Хотя она на глазах преобразилась: те маленькие дети, мягкие и пушистые, с которыми я еще недавно возился, превратились во взрослых барышень. А что касается всего остального… Мир вообще очень несправедлив. Я говорю не о России, а о мире как таковом. Проблемы есть у всех и везде. Мир преобразовать не в моих силах, поэтому я к нему пытаюсь приспособиться. Я очень самокритично к себе отношусь…. Ну а после семьи я люблю искусство, хожу на выставки. Для меня это удовольствие сродни эротическому. (Смеется.)
— Знаете, меня очень просили об этом не говорить. Но ничего не могу с собой поделать. Как говорил хазановский попугай: «я и здесь молчать не буду!» У любимого вами Мандельштама есть такие строчки: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». Вы согласны?
— Я хочу напомнить, что Мандельштам это писал в эпоху массовых репрессий. Поэтому неправильно проводить параллели. Кстати, я с большими отрицательными эмоциями воспринимаю попытку обелить эти годы. Что касается нынешней власти… Понимаете, и власть-то меняется. Вот я, например, не обладаю властью над чем-то. Я не могу позвонить на телеканал и сказать: что вы там показываете? Я не обладаю этой властью абсолютно. Мы власть как сервис, мы слуги народа, то есть работаем для общества. А попытка представить всех тотальными коррупционерами, которые купаются в роскоши, — это такой сложившийся стандарт, имидж, которому трудно противостоять. Но когда видишь десятки тысяч людей, которые работают в муниципальных, областных, городских органах власти, на федеральном уровне, работают именно для людей… Они работают сплошь и рядом за не самую высокую зарплату, я сужу по нашему коллективу, для них точно так же, как для многих, невозможна поездка на фешенебельные курорты, сплошь и рядом просто за границу. Они отдыхают на дачах. Я отдельно хочу сказать спасибо тому коллективу, в котором работаю.