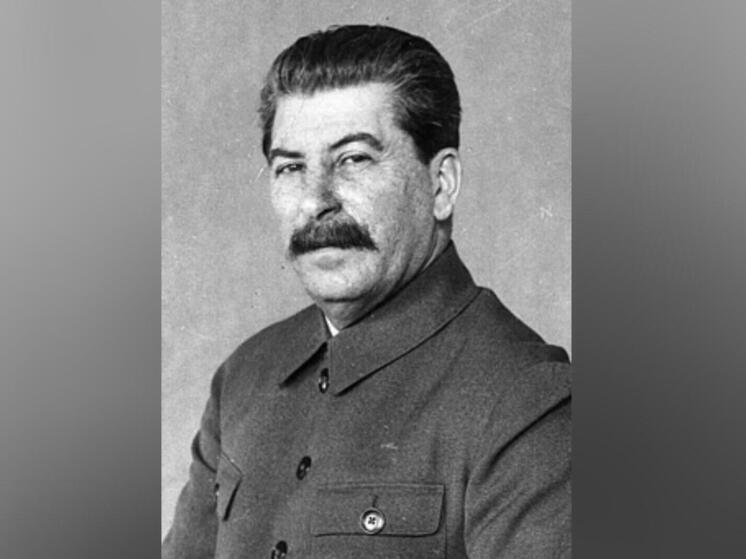«Со страшной мукой и глупостью всю жизнь болею за «Торпедо»
— Александр Анатольевич, извините, но в моем представлении вы прежде всего философ. Вам обидно?
— То, что ты сделал такой зачин, это замечательно. Потому что обычно спрашивают: вы прежде всего стойкий семьянин, вы 78 лет женаты на одной женщине, вы в одном театре уже 42 года… Но чтоб кто-то начал вот так, что вы стойкий импотент или стойкий философ, — это для меня откровение.
— Импотент и философ — для вас это что-то близкое?
— Синонимы.
— Ну, не будем про импотента, это не наша тема. Я о футболе. Театр, артистическая игра, по-моему, очень близка к футбольному действию.
— Это очень идентично. Я, понимаешь, со страшной мукой и глупостью всю жизнь болею за «Торпедо». Вот раньше кричали: ах, у нас нет футбола! Почему? Мало платят. Сейчас платят больше, чем там, — и ни фига. Теперь: не те тренеры. И вот позвали Капелло… Вместо того чтобы позвать Мишку Гершковича, Бышовца и Газзаева.
— Уже были.
— Нет, сейчас позвать стариков. Так вот в чем идентичность профессии? Игра! Гонорары, звания, положение в театре или в футболе, мечта быть председателем театрального общества или футбольной федерации — все это до момента, когда я выхожу на сцену, а они выходят на футбол. Если это продолжается и на поле, когда в голове у меня гонорары, — всё, я кончился. Если футболист, как актер, не общается, не чувствует дыхание зала и ему всё по барабану, то это машина, техника и бред. Эмоция, талант, игра и зритель! И тут, и там — зритель. В пустых залах играть нельзя — и на пустых стадионах играть нельзя.
— Но если даже один человек сидит, надо играть?
— Нет, 13. Ты не знаешь? Есть такой старинный негласный театральный закон со времен, наверное, Мольера. Когда жуткий спектакль, и говорят: ничего не продано, а артисты стоят за кулисами, смотрят в щель, зрителей считают: раз, два, три, четыре… шесть, семь, восемь… Всё, отменяется! Они так рады. И вдруг входит семья — пять человек. Трындец, надо играть. А вот старинный театральный анекдот. Во время блокады в Ленинграде работает Александрийский театр. В зале холодрыга, всего несколько зрителей, а дают «Ивана Сусанина». Постепенно люди уходят. И вот остается один. Он тихо подходит к рампе, ловит глаза, предположим, Черкасова покойного и говорит: «Ухожу». Вот тебе абсолютно точное у меня ощущение: если нету артистизма и желания играть для зрителя, Капелло, не Капелло — это все ерунда.
— Так у сборной России желание было, а артистизма-то и не было. Вы, наверное, знаете таких артистов, которые хотят, но не могут. Это трагедия вообще?
— Да, трагедия. Но они хотят. Те, которые не могут, хотят еще больше. И потом, понимаешь, я же ведь старый, я всю жизнь с футболом связанный. Я вот помню, как в городе Львове мы были на гастролях. И туда приехал «Днепр», который тренировал Лобановский. А мы дружили с Валеркой. И он меня позвал после спектакля к себе, в этот страшный блочный номеришко. Я как сейчас помню: выпили. А у него пол в этом номеришке завален газетами, как будто ремонт. В углу стоит пузырек для чернил. В этот пузырек воткнута кисточка. Он ползает по полу и этой кисточкой рисует игру. Гениально, да?
— Вы играли у Плучека, у Эфроса… Тренер и режиссер — это же очень близко. Ну, вы сами сейчас являетесь таковым. Ведь говорят: режиссер должен быть тираном, диктатором. Ну и тренер — то же самое. То есть это должна быть абсолютная монархия и вертикаль власти?
— Ну, я-то не профессиональный режиссер, а пришлый. Это был совершенно уникальный Гончаров Андрей Александрович. У него были точные заповеди работы тренерско-режиссерской. Во-первых, кнутом и пряником. И второе — каждой твари по паре. Это великая вещь. При том, что в театре всегда интриги, зависть, но когда там звезда — она и звезда, а когда две звезды… Это великая стратегия худрука, потому что есть опасность, что не ты. Точно так же — и тренеры, есть же гениальные: как они, бывает, угадывают с заменой! Я тебе говорил про Бышовца. Вот мы сидим как-то тысячу лет назад осенью, конец сезона, на стадионе «Торпедо». Сидим наверху, в так называемой правительственной ложе. Это был жуткий скворечник, построенный еще в начале зиловских времен. И там элита болельщиков: руководство ЗИЛа, другие товарищи. А слякоть, дождь… Футболисты по колено в воде на поле что-то там шамкают. Ужас! Потом перерыв, зашли в закуток, ну, выпили немного, чтобы согреться. Второй тайм начался, тут Бышовец говорит: «Пойдем, сейчас забьют». — «Да ладно врать», — говорю. Только мы на трибуны вернулись — и сразу забили. Вот такое гениальное чутье.

«Актер — абсолютно профессия животная»
— Вы играли графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А до этого играл Валентин Иосифович Гафт. Это тоже была конкуренция?
— Так Вальки тогда уже в помине не было в Сатире.
— Но вас все равно сравнивали.
— Это уже другое дело. Вот если бы мы выступали через раз, в очередь, тут бы началось… Хотя мы играли совершенно по-разному. К чести Плучека, он не ввел меня в этот железный Валькин рисунок. А знаешь, почему Гафт ушел из театра? Они играли этого «Фигаро», и Менглет, который там выступал в эпизодической, маленькой роли судьи, сидит на сцене как-то вяло, думает о своем. Тогда Валька подошел к Менглету, схватил его: «Общаться будешь?!» И ушел из театра. Так хотел общаться.
— Кстати, Гафт очень любит расколы. Вы ведь тоже?
— К сожалению, похвастаться не могу. Мишка Державин — вот он совершенно патологически не может не разыграть, не подначить. Я — нет. В жизни — да, на сцене — нет. Я могу, например, в импровизацию какую-нибудь вступить, ведь играть 400 спектаклей — это немыслимая Голгофа. А Мишка все время чего-то придумывал. Как-то волосы приклеил на тело, и Андрюшка Миронов все время раскалывался. Спектакль «У времени в плену» у нас был. Андрюша уже знал, что Мишка готовит подвох. Вроде посмотрел — нет, все нормально. И вдруг Миша распахивался, а там волосы, и Андрюшка прыскал со смеху.
— Когда Миронов умер на гастролях в Риге, вы были первым, кто его подхватил на сцене, кто вез его в Москву. Но Театр сатиры тогда гастроли не отменил. А должен был?
— Мало ли бывает трагедий… Есть же актеры, которые играют спектакль в день, когда умер близкий человек. А что делать? Потом начинается бодяга: театр не отменил гастроли… Это детский сад.
— Александр Анатольевич, по-моему, вы слишком умный для артиста. Вы умнее, чем эта профессия в принципе. Или я сгущаю краски?
— Не сгущаешь совершенно. Не может быть умных актеров, а актрис — тем более. Если подключен мозг, ничего не получится. Почему нельзя переиграть на сцене детей и животных? Главное — не думать, как сыграть. Актер — абсолютно профессия животная. Потом можно прикинуться философом, теоретиком театра... И вообще, это не мужская профессия. Но что делать, поезд ушел уже. Я все время таксистом быть мечтал: интересно же — новые люди, разговоры, а здесь один и тот же текст 400 раз. Но ты замечательно задаешь вопрос: Александр Анатольевич, вы такой умный… А я отвечаю: ну да. Это подтверждение того, что я дурак полный.
— А может, вы подтверждаете, что не совсем артист?
— Это сто процентов. Бывает не совсем артист, бывает совсем не артист. Но я все-таки первое.
— То есть вам голова мешает, и вы не всегда ее можете отключить?
— Ну конечно. Вот чему учит классика: полное проникновение, полное перевоплощение, внутреннее и внешнее. Это всё литература. Степень перевоплощения имеет значение для понимания того, чего ты произносишь. Но полное перевоплощение — это утопия.
— А у Юрского же вроде получается.
— Юрский не может полностью перевоплотиться, потому что он настолько мудр, умен и парадоксален. Он все равно, делая, анализирует. А Гриценко не анализировал. Во-первых, нечем было анализировать.
— А играл интеллектуальнейшие роли!
— Так это Боженька, он был гений. Вот тебе разница. Их, гениев, три с половиной. Сейчас же звезда, великий… — плюнуть некуда. А на самом деле их были единицы.
— Ну, тогда огласите весь список, пожалуйста. Итак, Гриценко — гений, еще Евстигнеев?
— Да, Евстигнеев, Луспекаев, Олег Борисов… Еще можно вспомнить парочку. Это не в обиду замечательным артистам.
— Извините, а Андрей Миронов?
— Он замечательный актер. Он был самокопака, но я говорю о своем ощущении. Для кого-то, может быть, Андрюша был и великим. Но я имею в виду ту планку, божественную. Андрей был абсолютно глобальный трудоголик, он был обаяния неслыханного, да все что угодно. И не дурак тоже.

«Музой Плучека была Татьяна Васильева»
— Простите, ну а себя вы, очень трезво мыслящий человек, куда поставите, в какой ряд?
— А себя я поставлю в многовековые профессионалы. Довольно умелые, да. Но чтобы сказать, что где-то было такое откровение, прозрение, снизошедшее оттуда. Никогда не было.
— Но была же, наверное, какая-то роль, хотя бы одна, которую вы сыграли гениально?
— Когда Эфрос пришел в «Ленком», а у меня уже был такой крест, штамп и, как сейчас говорят, бренд капустного хохмача, остроумного, находчивого… С этой находчивостью тоже жуть: вот он пришел, сейчас он «найдется»… Кошмар! Так Эфрос сказал, что будет это ломать. И действительно, я у него сыграл, в общем, штук семь-восемь серьезных ролей: и Тригорина, и в «Снимается кино» Радзинского, «104 страницы про любовь», Людовика в «Мольере», «Что тот солдат, что этот»… Я сыграл много драматических ролей, потому что Эфрос меня заставлял и считал, что мне это необходимо. Да, это зависит от уровня режиссера, который хочет из этой глины что-то вылепить.
— Эфрос вылепил из такой красивой глины, как Ольга Яковлева, суперприму для себя, свою музу, Галатею.
— Да, я тоже с Олей играл. В «Чайке» я ее совращал как Тригорин; в «104 страницы…» я ее хотел, она не давала; в «Снимается кино» просто она была моей музой. Еще был такой спектакль на Бронной — «Счастливые дни несчастливого человека» Арбузова, где мы тоже с ней играли любовь. Единственное, где я с ней не играл любовь, — это «Ромео и Джульетта». Эфрос на Бронной решил ставить эту пьесу. Все ждут распределения. Он меня вызывает, говорит: «Слушай, я так мучаюсь, ты знаешь, как я трудно подбираю материал, распределяю роли… Но вот я решился…» Я думаю: неужели Ромео? «Я тебя очень прошу мне помочь, — продолжает Эфрос. — Это так важно. Это центральная роль». Короче, Эфрос дал мне роль первого герцога, и в программке она была написана как главная. Я там лежал за кулисами четыре часа, а в конце выходил с этими перьями и говорил: «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Вот что такое Эфрос: он убедил меня, что это была самая главная роль.
— Но такие замечательные артисты, как вы, Гафт, Дуров, оказались при Эфросе лишь в свите королевы по имени Ольга Яковлева. Не унизительно?
— Ну, это было не совсем так. Да, Валька Гафт написал в каком-то журнале, что он, Петренко, я и Даль ушли потому, что надоело подыгрывать. Да, у Эфроса существовала совершенно маниакальная влюбленность… А без муз великие художники не могут. Но, если Ольга не была где-то занята, мы играли и без нее. А Таиров, Мейерхольд — у всех были глобальные музы.
— А у Плучека — Татьяна Васильева?
— Да, у Плучека Васильева, но она не была женой. Яковлева тоже не была женой, там была просто влюбленность. А Васильева долго служила музой, да.
— Если мы опять про футбол, то Ольга Яковлева была женой Игоря Александровича Нетто, капитана «Спартака» и сборной СССР…
— Что ты мне рассказываешь, я очень хорошо помню эту историю. Она училась в Щукинском училище, такая мяукающая, милая девка. А я там преподавал. Игорь сутками сидел и ее ждал. Он ее так добивался — и добился. Всю жизнь она была с ним, до его смерти.
…Мы поехали на гастроли в город Челябинск, еще при Эфросе. А тогда было модным первенство Москвы по футболу среди театров. У нас была довольно сильная команда. И вот к нам подошли: «У нас так принято, если приезжают гастролеры, обязательно играют в футбол с командой нашего города». Их команда называлась «Вышка». Мы спрашиваем: «Что, с зэками?» — «Нет, телевизионная вышка». Как выяснилось, эта «Вышка» «несла» всех, кто к ней приезжал. А с нами на гастроли приехали Игорь Нетто и другой знаменитый футболист, Мамыкин. Ну, в нашей команде Левка Дуров играл замечательно…
— А вы?
— Я в защите играл, очень плохо. Так мы загримировали Нетто с Мамыкиным… Когда спрашивали, кто это, отвечали: два рабочих сцены. И они вдвоем понесли эту «Вышку»… Исторический факт.
«Так что я слуга, и более никто»
— Александр Анатольевич, вам бы хотелось, как многим в стране, назад в СССР?
— Ужас в том, что я делаю вид, что ностальгирую… А это так и есть, как флер. Но я конкретику забываю. Я помню ощущения… Вот то, что я 22 сентября 62-го года съел на углу, а тут подошла Леночка… Ни-че-го! Но ощущения!
— Вкус лимонада?
— Да, лимонада, мороженого. Автомобиль «Победа», который под моей пятой точкой всю жизнь. Как я вез пьянь по десять человек…
— Это куда вы их возили?
— Из ресторана в театр, после спектакля домой.
— Вы были комсомольцем?
— Недолго, но в партии я никогда не был. А из комсомола как-то выгнали… Или по старости ушел, не помню. На Плучека, беспартийного, всегда давили, что в театре нужна партийная ячейка, и одними рабочими сцены тут не отделаешься. У нас были хитрые партийцы, которые держали марку: Рунге Боря покойный, Аросева, кстати, Пельтцер Татьяна Ивановна. Это те еще коммунисты…
— Плучек как к вам относился?
— Он был замечательный режиссер, энциклопедист, художник, он рисовал спектакли. А так — сложный человек… Влюбляющийся. Вот Андрюшу, Толю Папанова (да и то не сразу), Таню Ицыкович он любил. А меня… Да, конечно, необходим, пусть будет.
— Но он же вам давал ставить «Маленькие трагедии большого дома», например.
— Да, давал нам с Андрюшей, хвалил, журил, ну и хорошо. Но когда Марк Захаров поставил «Доходное место», Плучек почувствовал угрозу и отпустил его.
— Сейчас вы с властью поддерживаете отношения? Да вам без этого нельзя.
— С прошлой московской властью мы даже дружили. Лужков действительно сделал массу всяких дел, не только для нашего театра. Сколько он настроил! Как ни относись ко всем сплетням о Батуриной, но это его личное дело. А то, что стоит театр Фоменко, и театр Калягина, и театр Луны… Он это любил. Так что с властью мы не ссоримся никогда. А эта власть, городская, нынешняя, — вообще я к ней очень уважительно отношусь. И Капков, московский министр культуры, очень умный, замечательный парень. Когда он говорит: Диснейленд, аттракционы, катки, парки — становится 20-летним, просто Байроном. А говорит про театры — и сразу тухнет. Не его это.
— Почему? Вот в театре Ермоловой был Андреев, а пришел Меньшиков. Про вас ведь тоже такое могут говорить: уступите, мол, дорогу тем, кто помоложе.
— Как говорить? Я говорю первый. Да, Меньшиков, Писарев, Миронов, Серебренников — серьезные люди, занимающиеся театром. Но мне кажется, этот рынок совсем невелик. А абы как — не хочется. Столько пота, крови и так называемой биографии… Но надо быть идиотом, чтобы в 80 лет держаться за кресло.
— И вы не держитесь?
— Ну, ты же мне сказал, что я умный.
— А вы кто по жизни: Обломов или Штольц? Почему-то мне кажется, вам больше люб Обломов.
— В фильме Михалкова Андрей Попов играл слугу Обломова Захара. Так я — вот он. Я тоже люблю, чтоб было тихо, мирно, а своим чтоб было сытно и уютно. Так что я слуга, и более никто.