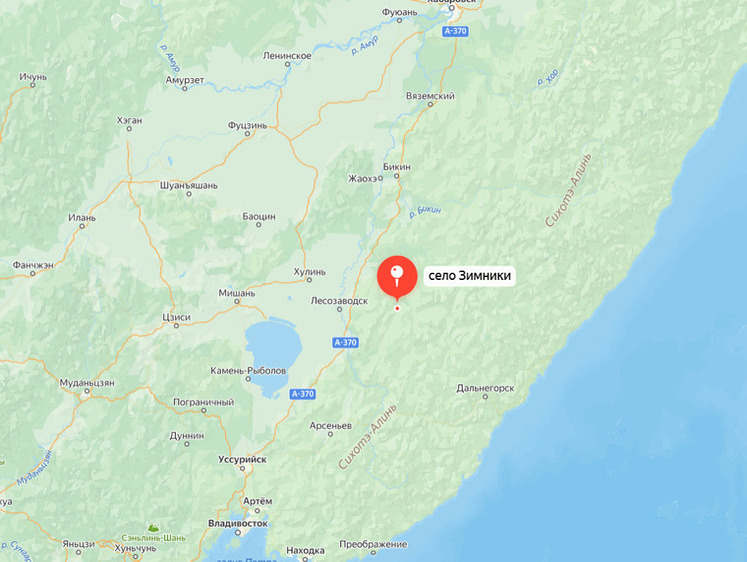ФАБРИКА ЖЕН
«Литгазету» помимо всех положенных ей по праву лестных эпитетов можно назвать еще и фабрикой писательских жен. Симпатичные корреспондентки, сопровождая делегации литераторов, бывая в командировках, постепенно сближались с героями своих репортажей, делались для них родными и привычными... Без любви жизнь уныла.
Сошлюсь на Михаила Дудина:
Мне из этой из поездки
Захотелося домой:
Кербабаев, Бабаевский,
Ну а бабы — ни одной!
Что может связать теснее, чем тянущиеся до первых петухов полные искрящихся шуток посиделки, чем учиняемые принимающей стороной лукулловы застолья, чем фанфаронски распущенные павлиньи хвосты ухажеров и долу опущенные лукавые глазки скромниц-интервьюерш? Семьи тех и других далеко, вне пределов видимости, тут, на расстоянии от опостылевшей бытовой преснятины, посреди южных широт или суровых северных пейзажей, так приятно нежиться в компании спаянных общей высокой просветительской целью и принадлежностью к одному кругу представителей, будем прямо говорить, элиты!
Случались столь трогательные, красивые, прямо-таки рождественские сказки, что делалось тепло на душе. Главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Баруздин, потеряв жену, тяжело занемог. В больнице его навещала по доброте душевной до того бравшая у него интервью журналистка «ЛГ» Роза Сафарова. Она стала Розой Баруздиной. У Сергея Алексеевича и Розы появился сынок Миша.
КУРОРТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Должность консультанта по украинской литературе в аппарате Союза писателей СССР занимал Иван Карабутенко — высокий, бритый наголо мужчина. (В штате наличествовали консультанты по всем национальным литературам — таджикской, туркменской, литовской, азербайджанской, а в иностранной комиссии состояли на службе консультанты еще и по литературам соцстран: Вьетнама, Кубы, Монголии.)
С Карабутенко и его маленьким внуком я оказался на пляже писательского Дома творчества в Пицунде. Вскоре туда приехали Юрий Николаевич Верченко — он был, напомню, одной из центральных фигур в руководстве СП — и Татьяна Архангельская, мы работали вместе в «Литгазете» и дружили. Таня, хрупкая и миниатюрная, смотрелась рядом с крупным Юрием Николаевичем тростиночкой.
В ней было много непосредственного и смешливого — того, что нравится не только взрослым, но и детям, внук Карабутенко сразу к Тане приластился и не отходил ни на шаг. Они серьезно беседовали, вместе купались. Верченко, появлявшийся на пляже нечасто и на очень короткое время, становился помехой их общению, ребенок хотел, чтобы Таня принадлежала только ему. Он настолько к ней проникся, что сказал: «Ты моя невеста». Таня перевела взгляд на Юрия Николаевича и поинтересовалась: «А кто этот дядя?». Мальчик, ни секунды не колеблясь, ответил: «Твой дедушка».
Таня тихонько рассмеялась. Юрий Николаевич мрачно ухмыльнулся. Их реакция не шла ни в какое сравнение с фейерверком мимики и ужимок, которые продемонстрировал Карабутенко-старший. Он побелел, покраснел, бритый череп собрался складками, консультант по украинской литературе забормотал: «Юрий Николаевич, вы, может быть, думаете, что он повторил мои слова...».
На протяжении последующих дней Карабутенко много раз подходил к Верченко и пытался дообъясниться и извиниться — иногда один, иногда таща с собой мальчика, так и не понявшего, что плохого он сделал и из-за чего настоящий дедушка огорчен и негодует.
ФЕОФАН И АНЯ
В течение долгого времени автор гимна, поэт, драматург, баснописец и крупный литературный функционер Феофан Грек казался мне личностью предельно ясной. Легко предугадываемой и не выходящей за рамки образа, который он сам для себя придумал (а власть ничего против не имела): сфинкс, атлант, взваливший на плечи и держащий вкупе с еще несколькими титанами нелегкий небосвод отечественной культуры.
Наши мимолетные, по необходимости происходившие встречи (ради согласования какой-либо официальной хроники о деятельности Союза писателей для газеты, где я работал) не обещали сделаться поводом сближения.
Вдруг все в один миг переменилось. Меня, мало кому известного автора, сочинившего повесть о буднях ипподрома, пригласили принять участие в торжественном заседании, посвященном двухсотлетию обнаружения в горном предместье Тифлиса табуна лошадей Пржевальского. С приветственной речью к собравшимся (форум проходил в павильоне «Коневодство» на ВДНХ) обратился доставленный лихой русской тройкой (звенели колокольчики под дугой) прямо к трибуне Феофан.
Я фланировал по залу, похожему на огромное стойло и попахивавшему навозом, не зная, с кем обменяться словечком. Внимание привлекла незнакомка с приспущенной на лицо вуалью и фужером красного вина, который она манерно подносила к губам: ломкие пальчики, смелое декольте, исполненный печали вид... Эта особа не была создана для одиночества! Рубиновый цвет напитка в бокале, охваченном кричаще-бордовыми коготками, платье карминного оттенка, ярко накрашенные морковно-вишневые губы — весь конгломерат пламенеющих оттенков походил на хитроумно скроенную мулету. Я приблизился. Мы молчаливо чокнулись — в прямом и переносном смысле. Я предложил ей немедленно отчалить (вместе со мной). Она задумчиво кивнула. Но с места не двинулась. Мы стояли будто внутри заколдованного, очерченного невидимой линией круга. Никто к нам не приближался.
Стоявший в отдалении за поперечным президиумным столом и беседовавший, кажется, с министром сельского хозяйства Феофан (дивно мерцала в сгустившемся вокруг меня полумраке сумасшествия Звезда Героя Соцтруда на его лацкане!) буквально оттолкнул своего конфидента и ринулся к нам, топоча по старинному, с кое-где отскочившими половицами паркету. Обычно он перемещался неспешно, вальяжно, а тут шагал, как в сапогах-скороходах, семимильно. На нем были туфли тонкой кожи, а он гремел! Таким я его никогда не видел.
Он в своих сединах, несмотря на гордую осанку и прямую спину фехтовальщика, воспринимался мною до этого мига стариком. Похожим на большую, умную, выдрессированную жизнью мышь. Микки-Маус человеческих размеров. С серебристыми усиками. Сейчас передо мной стоял (да нет, не стоял, а гарцевал) грозный кентавр, упругий, разъяренный самец. Он разве что хвостом себя не хлестал по бокам от бешенства.
В разговор вступила томная карминно-карменная красавица. Она оказалась сметливее меня. Вытянув губы трубочкой, просюсюкала:
— Феофанчик... Поедем все вместе. Ко мне...
Феофан засопел. Поправил сползшие с переносицы очки и подтянул сбившийся узел галстука.
Прибыли в писательский дом на улице Усиевича. Кем была незнакомка? Я гадал. Дочерью мастера художественного слова? Родственницей крупного начальника, сумевшего приобрести квартиру в элитном кооперативе? Начинающей поэтессой, по протекции Феофана поселившейся здесь?
Посреди комнаты, в которую мы, скинув в прихожей пальто, гуськом вошли, располагалась утопленная в полу ванна. Маленький бассейн. По краям водоема зеленели не искусственные, а живые пальмы. Мягко струилось лунное сияние из шарообразного, стоявшего в углу светильника. Феофан достал из бара югославской неполированной стенки (высший шик!) хрустальные рюмки. Я с изумлением обнаруживал в себе пробуждающуюся наглость. И покорность судьбе. Я думал: пусть он меня растопчет. И хорохорился: не растопчет. Мы потягаемся: кто кого?
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОДОБНЫХ ИСТОРИЙ
Сподвижник Феофана по Союзу писателей Анатолий Аккуратов перемещался от законной жены Сони к новой возлюбленной Глаше (в соседний дом) и разрывался между двумя привязанностями. Я оказался вовлечен в его заморочку. Аккуратов метался между двумя квартирами, как теннисный мячик между двумя ласковыми ракетками... Глаша и Соня были добрейшими, деликатнейшими, предупредительными. Я беседовал с ними поочередно.
Мы с Аккуратовым приезжали к Соне, и он говорил: «Побудь с ней, займи ее», — и убегал к Глаше.
Мы приходили к Глаше. Аккуратов говорил: «Посиди с ней, я скоро вернусь», — и убегал к Соне.
А ему ведь еще надо было сочинять повести. (Читки для друзей обычно проходили в доме Глаши. Перепечатывала рукописи Соня.) Необходимостью появляться в Союзе писателей он правдоподобно объяснял той и другой долгое или краткое отсутствие в их домах.
Анатолий Аккуратов был наимягчайшим и заботливейшим. Он страшился причинить боль Соне, но и с Глашей не мог расстаться. Однажды приехал ко мне в редакцию бледный и заплаканный, попросил запереть кабинет, где я сидел, изнутри и зарыдал:
— Глаша сказала: мы не будем больше встречаться. Мне этого не вынести!
Все вокруг были добрейшими, милейшими, тончайшей организации существами, и все были несчастливы или не полностью счастливы...
Сценарист «Осеннего марафона» воплотил в фильме свою собственную драматическую историю. «Я любил двух женщин как одну», — писал Вознесенский, передавая суть неразрешимой ситуации.
По-настоящему смешным — на драматическом фоне перечисленных мною эпикурейств — можно назвать единственный эпизод: комедиограф, красавец гренадерского роста, зная, что муж его пассии должен уехать на охоту, поспешил купить огромный букет и наведаться к даме сердца. Под ее квартирой (она жила на втором этаже) находилось меховое ателье. Гренадер позвонил в дверь. Открыл муж. Что предпринять в такой ситуации? Сатирик сделал лицо каменным, зрачки — фиксированно неподвижными, пробежал по лицу вопросительно застывшего мужчины подушечками пальцев и уточнил:
— Соломон Абрамович? Я за шапкой. Готов мой заказ? Цветы — вам.
И отдал букет.
Муж добродушно рассмеялся:
— Вам этажом ниже, уважаемый.
И хотел проводить мнимого слепца до ателье, но тот, поблагодарив, поспешил смыться.