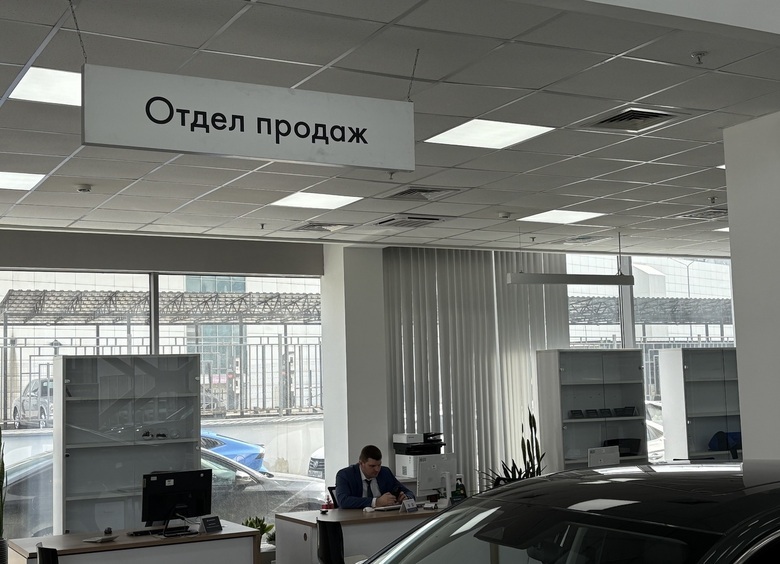В последний раз видел его... разумеется, на «Торпедо», на Восточной улице. На стадионе, где благодаря его личным усилиям впервые в Союзе сделали подогрев и он нет-нет да и вспоминал об этом с усмешкой. «Выходит, опередил время, а? Только в Киеве был подогрев, да у нас... Ну что с Киевом равняться, там Лобановский... Щербицкий вмиг все решал, а у нас — только труба вот, дымит...» «Трубой» он коротко, ласково называл ЗИЛ и относился к заводу так, словно сам там работал где-нибудь в горячем цеху. Да, впрочем, так ведь оно и было.
А тогда, при последней встрече, на стадионе, малость провинциальном, играли с кем-то смешным, то ли с Подольском, то ли с Калугой, вторая лига, низы, но он все одно был при параде: при галстуке, в темной пиджачной паре и светлой рубашке, брюки в стрелочку, ботиночки блестят, и только взгляд имел чуть иной — сонный. Поздоровались, я только что-то надумал спросить, как к нему уже набежали со всех сторон, и он подмигнул — потом, давай потом, после. «После» стало холодновато, и я ушел еще в перерыве. Скучная была игра, хотя Иванов всерьез говорил, что скучных игр вообще не бывает и что только мы, журналисты, сочиняем про скучные игры и приносим футболу вред. Со временем я понял, что он имел в виду.
Журналистов он быстро раскусывал: сказывался многолетний опыт и прирожденный здравый смысл. Говорил всегда только то, что можно было печатать, хоть и добавлял, конечно: «Это только тебе, это не пиши...», — но когда я приносил ему визировать материал, одобрял и то, что писать вроде было не надо. Валентин Козьмич казался мне непростым собеседником, он быстро реагировал на вопросы, легко отыскивал слабину, еще легче перехватывал инициативу и говорил о том, что казалось ему важнее, а главное, важнее футболу. Новые молодые журналисты его смешили и сердили одновременно. «Ты понимаешь, скандал ему подавай! — делился он, как со старым и проверенным знакомым. — У меня матч через день, а этот звонит и спрашивает, какие, мол, есть ЧП в команде! ЧП ему подавай...» И добавлял по адресу «этого» короткое злое присловье, которым пользовались тогда в «Торпедо» все: футболисты, дублеры, врачи, администраторы, массажисты, работники базы, ветераны, причем все они произносили четыре буквы с его, ивановской интонацией — и обязательно, как и он, весело блестя глазами. Выходило: не ругались, а так, ставили юмористическую закавыку в конце предложения.

Быть знакомым с ним — большая честь, это я понимал очень сильно и старался не навязываться, не мельтешить, не беспокоить пустяшным вопросом. Я считал, что мне повезло — говорить с самим Ивановым. Это чувство я потом испытал еще только раз — когда познакомился с Бесковым. Была в них обоих какая-то совсем редкая, ушедшая теперь порода. Ни тот, ни другой про свои подвиги никогда не говорили, настроены были критически, чему-то сердились и спорили, хмурили брови, а вот уходишь от них — неизменно с веселым, щемящим чувством. Мне кажется, к этой породе принадлежал и Андрей Петрович Старостин.
Разговоры с ним, а когда-то их было немало, почти все как-то оформились, вышли в разных жанрах, в газетах, журналах, книжках, и вспоминаются теперь отдельные его пассажи, часто неожиданные, вроде, и не вызванные специальным вопросом.
«Жена-то? Да она меня просто спасла. Я бы без нее никем не стал, так футболистом бы и остался. Ну играл там, выигрывал... А почему? Да потому что после матча мы всегда в баньку, отогреться, попариться, а там пошло, поехало, сам понимаешь. А жена, как расписались, посмотрела на это дело и говорит: „Ты, Валя, что-нибудь давай выбери: или я, или баня с дружками...“ Ну, пришлось выбрать. А иначе, где б я был-то теперь...»

И смеялся, довольный, то ли выбору, то ли ладно скроенной этой истории.
Или вот:
«Ну, перед сезоном, как полагается, в горком. К Гришину, к самому. Какие, мол, планы, чем помочь... Гришин меня спрашивает: «Какое место думаете занять, Валентин Козьмич? А я ему: „Надеемся четвертое занять, Виктор Васильевич“. „Почему только четвертое?“ „Так ведь, Виктор Васильевич, у вас же динамовцы, спартаковцы, армейцы уже были?“ „Были“, — отвечает. „Ну вот они пьедестал, поди, заняли...“ Гришин смеется. Помогал он нам хорошо».
Или еще:
«Да что ты мне про „Лужники“ говоришь! Спасли они нас, понял, спасли!
У завода ничего не осталось, ни копейки не было для нас. Где брать, чем платить? Какие там спонсоры для рабочей команды? Никому мы были не нужны, никому... Алешин пришел и все решил. А иначе мы давно бы вылетели. А „Торпедо“, между прочим, никогда из высшей лиги не вылетало. Даже „Спартак“ вылетал, ЦСКА, а мы — нет. Держались до последнего. На пару с „Динамо“. Нет, при мне „Торпедо“ из высшей лиги не вылетало, а дальше — это уж другая история, сами разбирайтесь...»
Как-то его спросили о новичках, и он зло брякнул в трубку: «А что новички? Клюйверта среди них нет!»
Клюйверт был тогда в большом порядке. Рвал и метал в «Барселоне» и сборной Голландии.
«Клюйверта им подавай... А что — игрок! А у нас вот в основном не игроки, а футболисты...», — усмехнулся и заговорил о другом.
В траурные дни одна из газет вышла с «шапкой»: «Ивановых в России много, а Козьмич — один». Впервые эту фразу я услышал от шахматного обозревателя «Московской правды» Леонида Гвоздева в 1992 году. Сейчас бы Леня, пожалуй, сказал: «Козьмич с нами, ребята!»