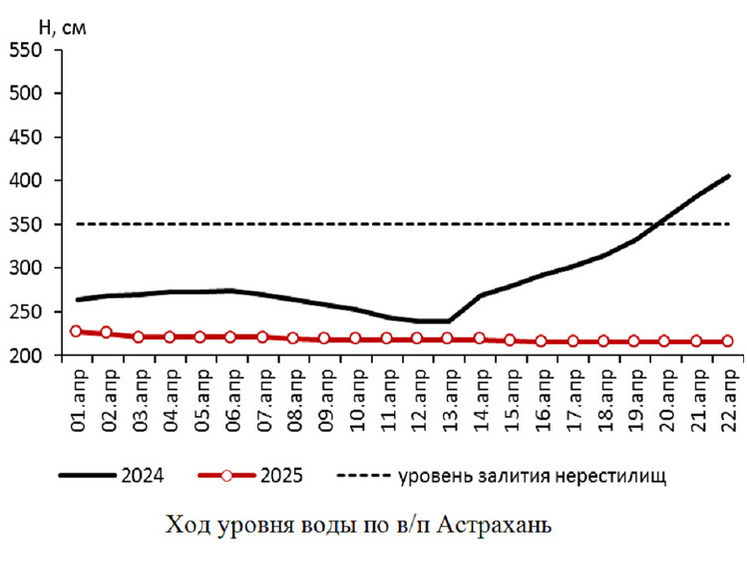Тенистый московский дворик. Медленный томный день. Люди сидят в основном на корточках, а если на скамейках — непременно с ногами. Песочница — словно пепельница, в плевках и окурках. Рядом навалена куча. Мимо ног катятся пустые бутылки. Гопники, профессура и просто городские бездельники — мирно сосуществуют, объединенные ленью, тенью и пивом. Происходит культурный отдых.
Но тут, будто табор, налетает яркая шумная молодежь в очках странной формы. В руках у них щетки и пакеты с наклейками в виде сердечек. Настойчиво и энергично, безостановочно улыбаясь, они в два счета разгоняют сидящих, собирают мусор в пакеты, облепляют пространство наклейками. «Субботник, у нас субботник!» — кричат они.
И это — вечером пятницы!
Горожане расходятся, ворча и негодуя, но слишком ошеломленные, чтобы вступить с чужаками в спор. «Это че, не наш город?» — сокрушается молодой человек в съехавшей на затылок кепке и спортивных штанах Adidas.
Наступление этой новой чумы шло все последние годы. Вместо пивных ларьков и колбасных лавок в центре открывались магазины дизайнерской экологичной одежды, смуззи-капкейк-миттбол-кофейни, прокладывались велодорожки, проводился бесплатный Wi-Fi. Распропагандированные «Дождем» и «Афишей», эти люди почему-то решили, что Москва должна быть европейским и чистым городом.
Они по-настоящему деятельны. Чиновничьи учреждения задыхаются от потоков их «урбанистических» жалоб: не так покрашен забор или не покрашен вовсе, на остановке нет расписания, Wi-Fi на Кольцевой в метро слишком медленный. Всегда недовольны. Но при этом недовольны не беспомощно-безнадежно и сразу всем, как нормальные российские граждане. Они optimistic. Они не по-русски радостны. Они прыгают весело в лужах и декламируют детский стишок про «дождик проливной». Дождевики на них — ядовито-желтые, солнечные. Они торжествовали во всем, везде. Из всех щелей лез, наступал этот новый пугающий мир.
Выступая на «Эхе Москвы» в период протестного подъема двухлетней давности, публичные интеллектуалы оценивали общественные настроения с помощью следующих метафор: женщина (Россия-мать) беременна — на девятом месяце, то есть рожает уже практически (рожает, понятно, новое общество, новых людей, новое все — в утробе у России просторно), и пытаться эти роды остановить — глупо. Или вот такая еще метафора: вылезла паста из тюбика — ее не впихнуть назад. Ребенка в утробу — тем более. То есть это стихия, необратимый процесс. Европеизация неизбежна. Власть устарела морально, как устарел морально стенной ковер. Скорее рано, чем поздно, его неизбежно снимут.
Но вот — день сегодняшний. Все велодорожки остались, и строятся новые, и даже Wi-Fi в метро стал быстрее, и бодрая молодежь по большей части пока никуда не исчезла — а ощущение этой неизбежности растворилось, как паста на языке. Зато появилось ощущение принципиально иное, словно кто-то переключил на «Pessimistic channel».
Российский бюрократический аппарат вступил на тропу войны с «Макдоналдсом» и кружевными трусиками. ВВЦ снова станет ВДНХ. Нормы ГТО обретают вторую жизнь. Старые патриоты выкопались из-под земли, воспряли духом, ходят со счастливым видом с госканала на госканал. Вот на том же «Эхе Москвы» молодой патриот Андрей Фефелов говорит о возрождении сталинизма, «культуры здоровья и солнца», которая сметет весь «гнилой декаданс». Но Андрей, романтическая натура, все перепутал. Происходит ровно наоборот.
Где же эти страшные бесчеловечные сталинисты Берии-Ждановы? Где ясноглазый ликующий комсомол?
Вместо первых у нас немолодой Киселев и уставшая Мизулина, которых будто зачем-то достали из заселенного молью шкафа. А за вторых по-прежнему отдувается кучка несчастных юных провинциалов, которым пообещали карманных денег, — эти вечные «Наши».
А еще во всей этой «реставрации» слышна очевидная сентиментальная нота. И эта нота сильнее всех прочих нот.
Журналистка все того же «Дождя» Мария Макеева пишет о позднесоветском ТВ: «Рекомендую посмотреть всем малышам, полагающим, что при советской власти жизнь была как в фильме «Стиляги». (…) Самые продвинутые люди — выглядели вот так (малиновый свитер, заправленный в штаны). Шапки вот эти, серые куртки (это ботинки еще в кадр не попадают). И когда я вспоминаю детство, то мне кажется, что вот в это время всегда была такая гнилостная зима».
В европейской истории есть короткий период перед Первой мировой войной, впоследствии названный La belle époque. В Прекрасную эпоху роскошно и бурно умирал старый мир. В самом этом словосочетании слышны ностальгия и нежность по еще недавним, но безвозвратно ушедшим временам. Когда трава была зеленее, небо — синей.
История пережила множество «прекрасных эпох». Наша последняя la belle époque — эта как раз та «бесконечная гнилостная зима». СССР времен геронтократии. Годы невнятицы с тем самым малиновым свитером в брюках, и облупившимся серым НИИ, и хамоватой официанткой в грязном переднике, и «Слезой комсомолки», и одинаковыми людьми в одинаковых лыжных шапках… Со всем этим миром поэмы «Москва–Петушки», трогательным и беспросветным. Миром, который долго заживо гнил, а потом как-то неуклюже расклеился в один миг. Как написал русский философ Розанов по другому поводу: «Шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Мерзко. Глупо».
Но что поделать, другой «прекрасной эпохи» у нас для вас нет. А тоске по этой вдруг стал подвержен и стар и млад. «Стар» провел в «Москве–Петушках» юность, для «млада» — это уютный мир бабушкиных и дедушкиных квартир, с вобравшими вековую пыль коврами на стенах и стопкой журналов «Наука и жизнь» на антресоли.
Однако в восхищении серой эстетикой того мира есть не только щемящая ностальгия, но еще и, конечно, страх перед наступающим миром новым. В котором советский человек чувствует себя так, будто внезапно оказался на сцене «Мулен Руж». Наглая, кабачная пестрота, в которой ты должен либо надеть вульгарную юбку и танцевать канкан, либо куда-то поскорее исчезнуть.
«Поэтому все должно идти медленно и неправильно». И чтоб обязательно беспросветно. И чтоб никаких кружевных трусов. Тогда — хорошо. Давайте-ка все это «отреставрируем». Верните нам наше милое сердцу убожество, проклятые хипстеры, отдайте нам родной запущенный двор!
Но, как известно из анекдотов, что бы ни делали туркменские физики-ядерщики, у них все равно получается анаша. И что бы ни строили скучные и сентиментальные номенклатурные жулики — царизм или сталинизм, — у них все равно получится бесконечный 82-й год. За которым все равно последует 91-й.
Даже возвращение Крыма — несмотря на гротескные декорации — это не «умоем сапоги в Индийском океане», не танки в Берлине и не казаки на Елисейских Полях, а какая-то бытовуха в экстерьерах советских трущоб. Мужичок шел по улице — увидел бесхозную кроличью шапку, поднял и пошел домой.
Декадентский старческий мир иногда бывает жесток, но жесток той последней жестокостью обреченного, с которой герой «Бойцовского клуба» Тайлер Дёрден, уже тяжело больной, разбивает лицо наглому молодому красавчику: «я просто хотел уничтожить что-нибудь прекрасное», — объясняет он. Но этот мир обречен. Пламенная молодежь все равно захватит и обустроит тенистый московский двор и заклеит Россию вдоль и поперек своими сердечками. А беременная женщина все равно родит.