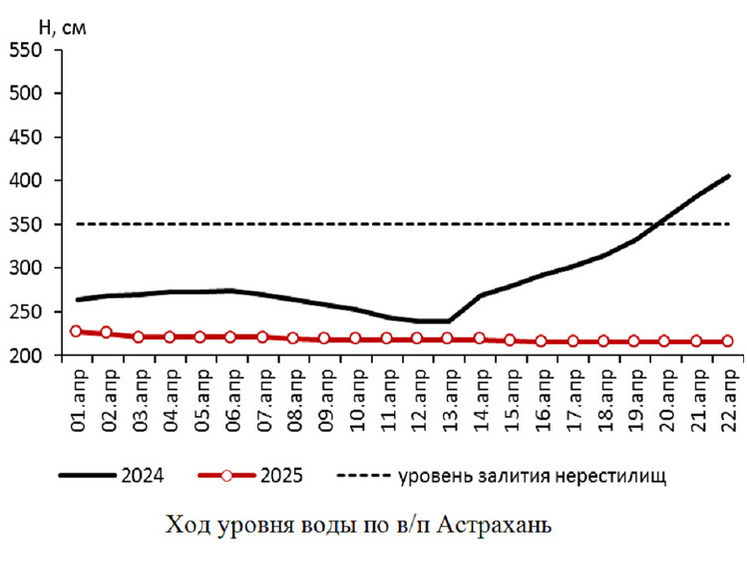Профессора Андрея Зубова уволили из МГИМО. Не его первого и не его последнего увольняют с работы – скажете вы и будете, в принципе, правы. Но только «в принципе». Потому что, конечно, недовольных не любят везде, тем более в серьезных государственных структурах; а тем более таких, которые позволяют себе открыто высказывать недовольство, да еще и подкреплять свои тезисы железобетонными историческими аргументами. Вот в этом-то и кроется, на мой взгляд, смысл произошедшего. Уволили человека, который имел весомые аргументы. А весомый аргумент, если и не всегда, то почти всегда – правда. Хорошо, пусть не вся правда, но значительная ее часть. Еще лучше: пусть эту правду не все таковой считают, но аргументированный тезис – это то, на что закрыть глаза невозможно.
Я не бывал на лекциях профессора Зубова, откуда же мне знать, что он имеет весомые аргументы в пользу того, о чем говорит (а говорил он, в частности, о Крыме, проводя некие исторические параллели и кое-что из истории вспоминая, поскольку историк)? А очень просто: в МГИМО не держат профанов и выскочек. По крайней мере, среди профессоров. У учебного заведения в ситуации с Зубовым есть свой веский аргумент: профессор нарушал корпоративную этику, допуская высказывания, идущие, так сказать, вразрез с позицией государства. И с этим аргументом тоже трудно поспорить. Если только не брать в расчет того, что кроме корпоративной этики конкретного института (любого, не только МГИМО) преподаватель должен соблюдать и свой преподавательский кодекс, один из главных принципов которого, мне кажется, звучит так: научи человека мыслить самостоятельно и выбирать из многих потоков информации тот, который кажется тебе правильным или нужным.
Мне помнится, году этак в 86-ом или 87-ом ездил я по вечерам от своей станции метро «Рижской» до «Проспекта Вернадского» и еще пару остановок на автобусе. Ездил в МГИМО. Там в те годы функционировала «Школа молодого журналиста-международника», где пытливые юные умы, кроме азов газетного дела, пытались постичь способы поступления в этот славный, сверхпрестижный в те времена вуз. Мои родители, в общем, были не против того, чтобы и я туда поступил. Но, конечно, понимали, что это вряд ли случится. Понимал и я, девятиклассник обычной московской школы со спортивным уклоном. Но упорно ездил на «Проспект Вернадского». Интересно там было: студенты, аспиранты, профессора, все очень серьезные, погруженные в себя…
Заходил я в институт всегда с каким-то чувством внутреннего торжественно-тревожного клокотания: еще бы, ведь это была альма-матер выдающихся советских дипломатов и журналистов (простите, экономисты и правоведы, ваши профессии мне тогда казались неинтересными). Однажды я даже стал свидетелем разбора недостойного поведения какого-то студента, комсомольца N. Приехал на занятия чуть раньше времени, мне пришлось стоять в коридоре и через полуоткрытую дверь аудитории слушать, как товарищи по курсу голосовали за исключение комсомольца N. из института. Исключали, как я тогда понял, за открывшееся вранье этого самого комсомольца. Проголосовали, между прочим, единогласно. И я был с ними абсолютно согласен: врать нельзя. Но мое внутреннее чувство справедливости было какое-то нечистое, с налетом недоверия.
За полгода до этого меня приняли в комсомол. Мероприятие (или меняпринятие) происходило в зале бюро Дзержинского РК ВЛКСМ на проспекте Мира. Мы, будущие комсомольцы, сидели на стульях вдоль стен, было нас человек сорок, а то и больше, из разных школ. А за длинным столом в центре зала восседали «полубоги» – члены бюро райкома.
Они поднимали каждого из нас по очереди и задавали свои удивительные по простоте и сути вопросы: за что, например, комсомол получил какой-то там орден Ленина. Думаю, эта сцена знакома многим, прошедшим через горнило Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Но у некоторых из кандидатов спрашивали еще кое-что.
Например: «Какие у вас, Николай (Ольга, Владимир) отметки в школе? Все оказались отличниками и хорошистами. Хотя я знал, как минимум, троих, которые учились весьма средне, а бывало и «двоечки» получали. Но для бюро райкома они сочинили другую историю своей школьной жизни. И тут же, единогласным голосованием, принимались в ряды молодых строителей коммунизма.
Когда очередь дошла до меня (а я как-то по воле случая оказался одним из последних на своем стульчике у стенки), я услышал тот же вопрос: «Как вы учитесь, Сергей?». Я знал, что врать нельзя. Лицо горело, язык стал ватным, но я сказал правду — что есть тройки в четверти, и не одна. В зале повисла пауза, но надо отдать должное секретарю райкома, который быстро нашелся: «Предлагаю, с учетом исправления отметок, Сергея принять!» И приняли единогласно. Потом меня моя классная руководительница отчитывала: «Зачем портишь нашу благополучную общешкольную картину?» Я тогда не знал, что такое корпоративная солидарность. Или корпоративный кодекс. Мне было очень обидно, что другие наврали. И чувство справедливости как-то слегка помутнело во мне.
И вот это нечистое чувство справедливости по поводу того, что, врать нельзя, но в то же время, иногда, можно и даже нужно, я испытал еще раз в коридоре МГИМО, когда комсомольцы гневно и изгоняли из института своего товарища. Я не сомневался, что его стоит изгнать, но мне почему-то казалось, что некоторые из голосовавших тоже не всегда были честны. Теперь понимаю: так было нужно для корпорации.
Неблагоприятные прогнозы относительно моего поступления в МГИМО оправдались. Несмотря на то, что мое пробное эссе на какую-то международно-политическую тему (кажется, про загнивающий империализм Соединенных Штатов) мгимошные кураторы назвали в числе нескольких лучших, через год я поступил в военное училище.
Там, конечно, никаких эссе никто не писал. Но ротную стенгазету всегда вывешивали вовремя. Не помню, в какой конкретно день недели, но ровно в шесть утра она висела на самом видном месте. Называлась наша ротная газета «Лицей». Нас было всего человек пять-шесть, кто ее делал. Сидели ночью в Ленинской комнате Влад Уваров, Слава Рощупкин, Виталик Корнейчук, Юра Котов, Серега Холошевский и я. Если кого-то забыл, простите. К шести надо было обязательно повесить. Потому что в семь в роте появлялся начальник политотдела училища полковник Никакойто (настоящую его фамилию я забыл за давностью лет). И газету срывал со стены. Но до этого времени ее успевали прочитать многие, даже некоторые курсанты из других рот, которые специально прибегали в половине седьмого.
В нашем «Лицее» не было ничего крамольного. Если бы было – нас быстро вышвырнули бы за ворота орденоносного военно-политического училища. Но уже сам факт того, что несколько курсантов писали так, как не положено было писать по корпоративному кодексу, вызывал гнев начальства. Мы успели тогда выпустить пять или шесть номеров газеты. А потом ротный, нормальный мужик, вызвал нас и сказал: «Кончайте ерундой заниматься, из-за вас роту гнобят!»
И мы кончили.
А профессор Зубов все никак не мог понять, что нужно «кончать заниматься ерундой» и соблюдать корпоративный кодекс. Взрослый, вроде, умный человек, а все туда же, как мы когда-то, четверть века назад, — «некорпоративно» вступавшие в комсомол и выпускавшие свою «некорпоративную» газету.