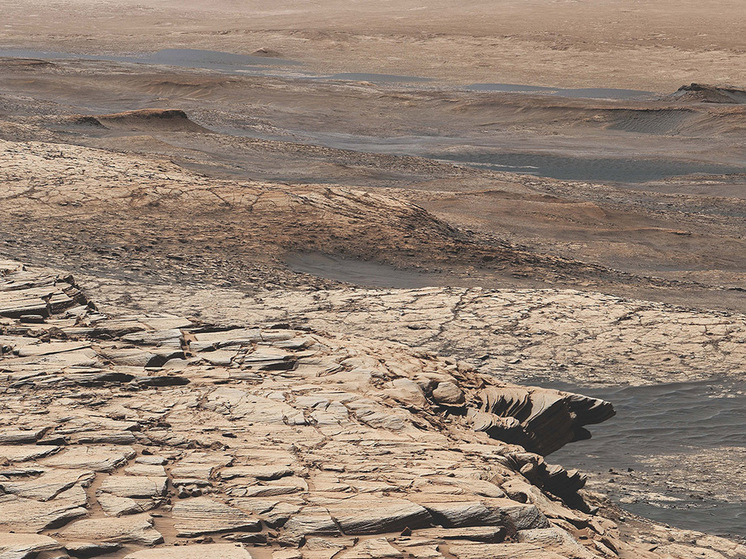В общем, так.
Звоню я жене и спрашиваю:
— Как ты думаешь, зачем я тебе звоню?
— Опять, что ли? — говорит она. — О-о, ужас-то какой!
Дело в том, что третьего дня я был дома один. Кошка спала на диване. И вдруг мои слуховые анализаторы уловили какое-то едва различимое трепыхание где-то далеко за спиной. Я, понятно, напрягся. Кто там? Воры? Но незаметно пройти мимо меня они не могли. Фантастическое чудище, выросшее в глубинах Мосводоканала и выползшее из крана, дабы удавить меня в своих маслянистых объятиях? Это вероятней, но школьное обучение в годы, когда экстрасенсов и прочую потустороннюю муть показывали еще не по всем телеканалам, взяло свое.
Я бесстрашно пошел на кухню.
Там был голубь.
Я сразу же понял, что он залетел случайно, а сейчас не знает, как выбраться. Пошел искать скатерть или халат, чтобы помочь ему найти дорогу к форточке. Но голубь, оказалось, дорогу знал и улетел сам. Ловить или убивать его мне в голову не пришло — все-таки божья тварь.
Птички, залетающие в окна, — расхожий сюжет простонародных предрассудков.
— Ужас какой! — сказала мне по телефону жена. — Дурная примета! Душа умершего не может прикаяться! Ты отцу уже позвонил?
Отцу я позвонил. Моему отцу 88 лет. Поэтому каждый незапланированный телефонный звонок из Екатеринбурга (и визит голубя) я воспринимаю с тревогой.
— У меня все нормально! — бодро отрапортовал отец, добавив, конечно, ноту сочувствия к самому себе: — Как может быть нормально у человека моего возраста… — До самого последнего времени он работал на заводе, но недавно уволился и заметно сдал.
На следующий день голубь прилетел снова.
Я снова позвонил отцу.
И через день тоже.
— Как голубь себя вел? — спрашивает жена.
— Он сказал: «Я — твоя бабушка Татьяна Фатеевна, сними деньги со всех счетов и закопай на перекрестке улиц Солженицына и Краснопролетарской…»
Видимо, однажды он залетел к нам случайно, подсел на кошачий корм и запомнил дорогу. Наверное, у голубей тоже кризис, раз они освоили приемы домушников.
На следующее утро жена вышла на кухню — а голубь уже там завтракает. И не только. Голуби, как известно, не самые чистоплотные животины.
Теперь голубь, бывает, залетает по два-три раза на дню. Кошка уже начала им интересоваться. А он заметно нервничает… Прилетает с подмогой.
Вот, собственно, и вся история.
Какова мораль?
Позвоните родителям. Тчк (если кто помнит, что это такое).
Можно, конечно, и политику сюда приплести.
Отец моей приятельницы Виолетты говорил ей во дни перестройки:
— Почему вы хотите делать что-то свое, обязательно разрушив наше? Неужто нельзя мастерить это двумя метрами левее?..
А мы этого не понимали. Я трудился в газете при бурбулисовском фонде, рассылал во все долы и веси агитацию, на которой Руцкой и Хасбулатов изображались прямыми потомками Гитлера, и никакой иной точки зрения в расчет не принимал. Был демократом (в хорошем смысле этого слова). И все бы ничего, но все прочие считались у нас «красно-коричневыми», маргиналами, которых не стоит принимать в расчет. А мы и не принимали. Период реформ, как говорил внук двух гениальных советских писателей, суждено пережить не всем.
Мой отец-инженер, который в 1980-е любил пошутить над тем, что моя мама-учительница была коммунистом (с 20-летним стажем), в 1990-е вдруг стал выписывать «Советскую Россия», ходить на митинги и обвинять во всем нашего кумира Ельцина. У моей подруги Тани Михайловой с отцом произошла похожая трансформация. Это было непонятно, но потерпеть требовалось совсем немного, и весь регрессивный мир сам уйдет восвояси.
Поэтому когда журналист Максим Шевченко талдычит про «либеральный фашизм», я его вполне понимаю.
Мир, однако, не уходил. И более того — оказалось, что все эти элементы, которым не суждено попасть в новое свободное будущее, — наши родители, бабушки и дедушки, дяди и тети. И даже мы сами. Когда я слышу, что первое «по-настоящему свободное» поколение появится в России, когда умрут все, выросшие при социализме, тут же соображаю, что это я, все мои родственники, друзья и знакомые. А я умирать категорически не согласен!
Заехав на родину в конце 1990-х, я испытал, что называется, культурный шок. Город Березовский, где я родился, стал похож на развалины Карфагена из искусствоведческих книжек. Стены выщерблены. Подъезды и заборы давно никто не красил. Штукатурка на лестничной клетке облезла после потопов системы отопления, которая размерзлась из-за отсутствия горячей воды. Поверх старых батарей пустили новые трубы, как в послевоенную разруху, наверное, было.
Выжившие советские люди вызывали не менее искусствоведческие ассоциации. Мой дядя Леня был бригадиром на Свердловском инструментальном заводе (одном из трех в СССР), где впервые появились станки с числовым программным управлением, и «передовиком коммунистического труда». Автором рационализаторских предложений (например, чтобы меньше тратить время на чаепития и перекуры, по его цеху ходили буфетчицы с тележками, развозили чай и пирожки), отчего его зарплата доходила временами до 600 рублей (при средней 150)! Помимо этого он ежегодно ездил в турпоездки по всему миру (половину стоимости путевок оплачивал профсоюз). Капиталистические страны можно было посещать через две социалистические, оттого во Вьетнаме и Болгарии он побывал несколько раз, задарив циновками с драконами всю родню.
Когда завод дяди Лени приватизировали и стали производить на нем — не поверите — только гробы, дядя Леня сразу начал болеть. Ему какой-то хрящ в носу вырезали, отчего он моментально из всеобщего любимца, гиганта и балагура превратился в подобие античной статуи с отбитым носом.
Некоторые мои друзья возмущаются, как помпезно и повсеместно отмечали на этот раз 70-летие Победы, но я помню период — сейчас это трудно представить, — когда стариков и ветеранов вовсе не поздравляли.
В общем, хватит ностальгировать.
Отец удивляется, чего это ему стали трезвонить каждый день, хотя, бывало, по году не звонили.
— Когда приедешь? — спрашивает.
— Ну, недели через две… — уклончиво отвечаю я, уразумев, что каждодневные прилеты голубя ничем ужасным мне не грозят.
И жена, приходя домой, спрашивает уже без особого беспокойства:
— Ну что, голубь сегодня был?
— Уже улетел, но обещал вернуться!