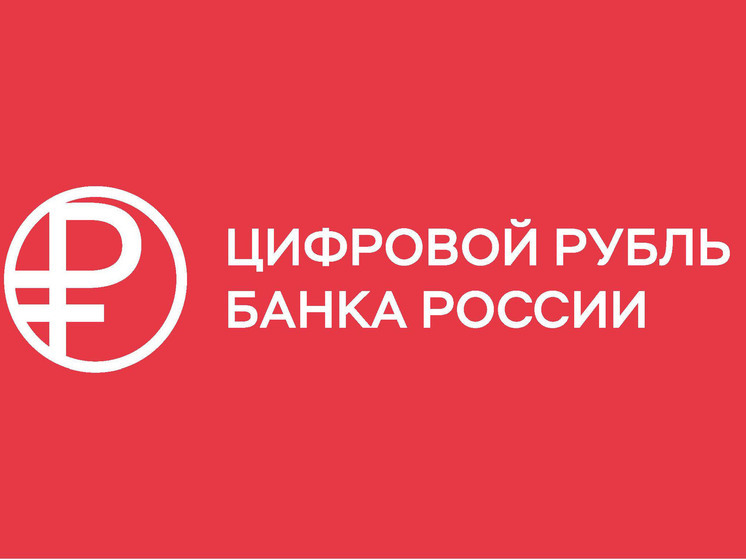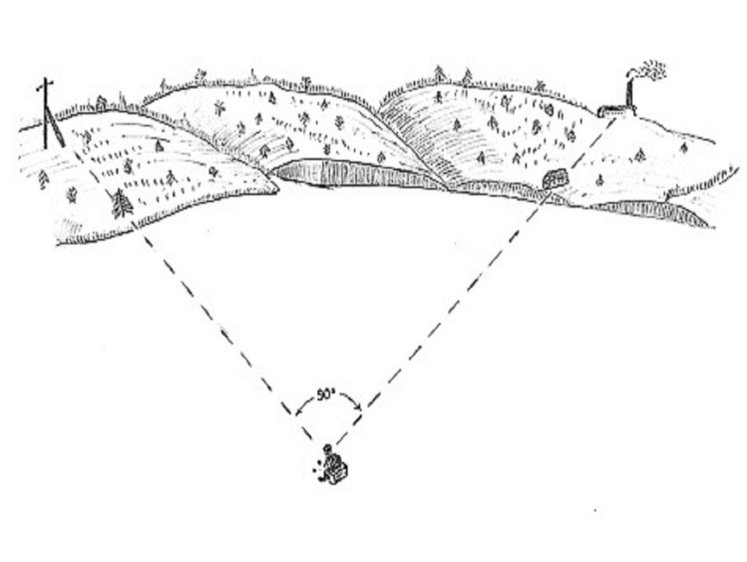— Моя внучка поступила на «бюджет» в Уфимский педагогический колледж №1, — с гордостью рассказала нам еще перед началом учебного года пенсионерка-бухгалтерша. — Вот только пойду 4000 рублей заплачу, и всем нашим переживаниям конец. За ум возьмется, учительницей будет.
Немолодая дама, всю жизнь по роду службы считавшая деньги и знавшая им цену, не задумаясь, отстегнула больше половины своей пенсии и понеслась в ближайшее отделение банка платить «вступительный» взнос.
По ее словам, на первом собрании в колледже всем родителям раздали «Договор пожертвования», согласно которому предки будущих учителей дарили «Благотворительному фонду содействия развитию государственного образовательного учреждения «Уфимский педагогический колледж №1» кто четыре, а кто и пять «штук», в зависимости от выбранной специальности их отпрысков.
— Но ведь любые пожертвования добровольные, вы же можете отказаться…
— Ну да, не заплачу — ребенка задергают, придираться начнут, учиться не дадут, да еще и отчислят.
С такой мотивацией вряд ли поспорят и другие родители, а потому, вероятно, как наша героиня, и они подчинились такому завуалированному шантажу и в едином порыве бросились жертвовать «тыщи», фактически покупая спокойствие своих чад в учебном заведении.
Наш корреспондент собственными детьми еще не обзавелся, а потому решил исключительно в добровольном порядке подарить благотворительному фонду 100 кровных рублей, которые, по его мнению, должны были помочь «развитию государственного образовательного учреждения». Мало ли что на эти деньги полезного можно купить: 10 пачек скрепок, 5 тетрадей или 12 карандашей. Но для этого нужно было заключить «Договор пожертвования».
В приемной сообщили, что взять этот важный документ можно у заместителя директора по учебной работе Елены Тухватуллиной.
— Вы у нас на какую специальность поступили? — спрашивает Елена Галимяновна. — На дошкольное образование? Тогда пять тысяч. Вот вам договор и квитанция.
Удивительно что, на столе у завуча их лежала целая стопка и все одни уже были скреплены печатью и подписаны исполнительным директором фонда некоей Лианой Галимяновной Хусаиновой. Судя по редкому отчеству, похоже, родной сестрой завуча.
В квитанциях помимо суммы требовалось указать, за какого студента, какого отделения и группы вносятся деньги.
По всей видимости, руководители-благотворители заранее распределили, какая сумма «пожертвования» должна соответствовать каждой специальности. Да и отследить поступившие взносы будет проще: а то вдруг кто-нибудь недодаст?
Вот наглый репортер, например, не послушался командирского приказа завуча и уменьшил рекомендованный взнос в 50 раз до 100 рублей. Однако, будучи внимательным человеком, скрупулезно изучил пятый пункт волшебного договора («Жертвователь вправе контролировать использование пожертвования по целевому назначению») и вновь зашел в колледж поинтересоваться судьбой своих денег и вдобавок попросил встречи с директрисой фонда Лианой Хусаиновой.
— А вам зачем она, вы у нас учитесь? — теперь уже настороженном голосом спросила завуч.
Похоже, такого щедрого пожертвования она еще не встречала.
— Нет, но я заключил договор с госпожой Хусаиновой и хочу узнать, как расходуются мои деньги.
— Не пойму, в чем дело? — захлопала глазами Елена Тухватуллина, — Кто вы такой, кто вам дал договор?
— Вы и дали.
После продолжительной паузы Елена Галимяновна вышла из ступора, взяла себя в руки и сообщила, что другая Галимяновна — Лиана — в колледже не работает, фонд — совсем другое юридическое лицо, и все документы у «благотворительного руководства».
— Я обязательно передам исполнительному директору фонда вашу просьбу, — выдавила улыбку на прощание преподавательница.
Через несколько дней из колледжа позвонили и пригласили на мероприятие, на котором обещали «все объяснить и показать». При колледже открывался ресурсный центр «дошкольной академии», и средства, полученные от благотворителей, якобы направлены именно туда. Исполнительной директрисы опять не оказалась, зато известная нам завуч являла собой воплощение гостеприимства.
Она с гордостью продемонстрировала маленький класс площадью около 20 квадратных метров, окрашенные обычной краской стены, три небольших стеллажика, и кусок самого обыкновенного ковролина примерно 4 на 5 метров.
— Знаете, какой сейчас ковролин дорогой! — пыталась непринужденно шутить Елена Галимяновна, — Все лучшее — детям!
Если верить ее словам, то можно было предположить, что напольное покрытие изготавливалось по индивидуальному заказу ручной работы и завозилось с другого конца света.
Как пояснила госпожа Тухватуллиной, из 145 поступивших в колледж в нынешнем году, примерно 70 родителей студентов заключили договоры пожертвования.
— А ваши 100 рублей мы не знаем, куда потратить — добавила завуч. — Это ведь целевой договор, а вы не указали, на что вы жертвуете.
Похоже, 70 остальных жертвователей пожелали приобрести именно ковролин? Они, наверное, так и написали…
На официальном сайте колледжа задачи благотворительного фонда громко называются миссией: «Миссия фонда — оказание всесторонней поддержки и помощи Уфимскому педагогическому колледжу №1 в его деятельности по подготовке специалистов среднего профессионального образования на уровне отечественных и международных стандартов».
Глава миссионеров Лиана Хусаинова, которую, увы, не удалось увидеть вживую, в интернете пафосно выступает:
— Мы не можем спасти весь мир и помочь всем нуждающимся, но в наших силах оказать поддержку и помощь колледжу в подготовке специалистов на уровне отечественных и международных стандартов.
Как следует из отчета к юбилею образовательного учреждения, деньги благотворителей предыдущего учебного года были направлены исключительно на «подготовку специалистов на уровне отечественных и международных стандартов», а именно на оплату рекламных публикаций в журнале «Среднее профессиональное образование», приобретение сувенирной продукции и организацию юбилейного концерта (запись фонограмм, цветы и проч.).
Третьекурсник Вадим Гатауллин вспомнил, что при поступлении его родители заплатили три тысячи рублей.
— Вроде бы говорили, что деньги на ремонт пойдут, — неуверенно сказал он. — Три тысячи не такая большая сумма, да и платить пришлось всего один раз.
А девчонка-первокурсница из многодетной семьи призналась, что ее эта участь не постигла.
— Сказали, что социальным семьям не нужно платить, — с восторгом говорит она, — Но нас таких мало.
И от того, что руководство фонда (или руководство колледжа?) заранее распределило, кому надо платить, а кому нет, становится как то не по себе. Что это? Странная коммерциализация среднего профессионального образования, гибрид под одной крышей платности и бесплатности или все же не слишком завуалированное вымогательство?