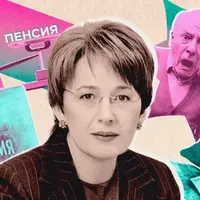Конечно, для начала возникает вполне естественный вопрос о том, как можно в наше время, после десятилетий советской власти, которая своими действиями просто смешала почти все дореволюционные этносы в плавильном котле гигантского переселения из деревни в города, из одного региона в другой через смешанные браки, вычленить «настоящего русского» или, к примеру, «настоящего татарина»? По религиозному принципу, как это принято было при царе (православные, магометане, иудеи и прочее)? Но та же советская власть весьма успешно лишила усредненного российского человека и религиозной идентичности. Например, не нужно обольщаться цифрами, что среди нашего населения аж 20% мусульман. Подавляющая часть из них (кроме разве что отдельных мест на Северном Кавказе) мечеть посещают весьма редко, пятиразовый ежедневный намаз не совершают, хотя чисто культурологически причисляют себя к мусульманам. Ровно то же относится и к той части нашего населения, которая считает себя православной.
Поэтому, за исключением отдельных очень немногочисленных действительно уцелевших очевидных этнически-религиозных групп, остальное население России представляет собой довольно усредненную массу. Известны исследования «Левада-Центра», в которых показаны нарастающие тенденции к резкой примитивизации массового сознания и представлений граждан о реальности, социальных институтах и возможностях защищать свои интересы. Оборотная сторона этого явления — нивелирование групповых различий в российском обществе. В этом смысле если уж речь все-таки идет о нашем «культурном коде», то он скорее интернационален, внерелигиозен и экстерриториален.
Однако, возвращаясь к главной мысли, спрашиваю сам себя: а имеет ли смысл говорить о российском «культурном коде», даже если он характерен, например, для 86% населения? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратим внимание на несколько социальных феноменов, которые произошли буквально на наших глазах, за 25 лет истории новой России.
Для начала вспомним 1990‑е годы. В 1991–1992‑м рухнули все основы прежнего режима, в том числе и в экономике. ВВП резко упал, радикально снизился уровень жизни. Как на это отреагировал «российский человек»? Не бунтами и не обреченно-покорным залеганием на дно. Люди, поняв, что от государства ничего не дождешься, начали самостоятельно суетиться: кто-то занялся челночным бизнесом, кто-то пошел торговать всякой всячиной, кто-то стал оказывать бытовые услуги, кто-то «сел на огород»... Увы, такой стресс оказался роковым для здоровья и жизни миллионов, особенно мужчин, которые рвали жилы, чтобы прокормить свои семьи. Но даже дефолт 1998 года никак не сдвинул людей к массовым протестам.
Кстати, начавшийся уже с 1999 года экономический подъем в первые несколько лет обеспечивался не столько растущими мировыми ценами на нефть и газ, сколько увеличивающейся загрузкой уже имеющихся мощностей в российской промышленности с последующими эффектами в виде роста зарплат и потребительского спроса. Именно тогда, в середине 2000‑х, когда народная энергия масс была далека от требований государственного патернализма, можно было бы серией институциональных реформ закрепить этот «культурный код» на стратегическую перспективу. Вместо этого государство, во-первых, стало подминать под свой прямой и косвенный контроль все большую долю экономики и, во-вторых, высыпать на население часть принесенных в страну шальным ветром сверхдоходов от продажи сырья. В результате мы быстро пришли к незавидному положению малого бизнеса и массовому патернализму.
О чем говорит этот кейс? О том, что поведение больших масс людей может меняться очень быстро — как в позитивную, так и в деструктивную сторону. Многое (но не все!) зависит от проводимой государством политики, которая может создавать эти приливы и отливы. Даже 70‑летняя советская тоталитарная прессовка мозгов в 1991 году оказалась бесполезной в один прекрасный момент. Именно поэтому я надеюсь, что очередная попытка свести людей к серой массе «человеческого капитала» закончится намного быстрее коммунистического эксперимента.
Еще одна иллюстрация этому — Северный Кавказ. Казалось бы, глядя из Москвы, можно сделать вывод о неспособности местного титульного населения к цивилизованному саморазвитию. И история этих краев вроде бы свидетельствует об этом, и исламский фактор. Много говорят о том, что в данном регионе реформы обречены на заведомую неудачу — этому помешают кланы, особо системная коррупция и много еще специфических факторов. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой стороны. Дух предпринимательства на Северном Кавказе развит как нигде. Люди не гнушаются никакой работой — главное, чтобы она давала доход. Да, упомянутые выше местные обстоятельства существуют, но при правильном подходе они вполне преодолимы. Посмотрите на пример Турции и Индонезии, которые вполне совмещают исламские традиции и современную быстроразвивающуюся рыночную экономику. И не надо гипертрофировать «особость» нашего Северного Кавказа с точки зрения перспектив успешного самодостаточного экономического и социального развития.
Еще один кейс, который говорит о том, что российский «культурный код» вовсе не приговор нашему даже близкому будущему, — это судьба нашей эмиграции. Как известно, еще в 70‑е годы прошлого века из страны многие начали выезжать по «еврейской», а потом по «немецкой» линии. На самом деле национальное происхождение было лишь поводом для поиска за границей лучшей жизни миллионами «типичных» советских людей. А в 90‑е годы этот поток и вовсе лишился даже формальной этнической окраски. Что же там произошло с бывшими нашими согражданами?
Понятно, что в среде эмигрировавших есть раскаивающиеся в своем решении, но сказать, что среди огромного массива бывших наших распространена ностальгия по России, было бы откровенным преувеличением. Несмотря на очевидные трудности адаптации к новому месту жительства, те, кто мог работать, так или иначе устроились. Не всегда на престижные и высокооплачиваемые места, но вполне достаточные для того, чтобы не впасть в нищету. А неработающие получают пусть и скромную, но позволяющую не думать о том, как прожить завтра, государственную социальную помощь. А их дети и внуки вполне успешно пошли в школу, в университет, занялись бизнесом, ощущая себя уже никак не русскими, а обычными гражданами новой родины, живущими по ее правилам и внутри ее институтов.
Задача тех, кто хотел бы цивилизованного европейского будущего России не в том, чтобы выстраивать глубоко порочную схему, которая сводится к следующему: наш народ («человеческий капитал») перегружен «культурным кодом» крепостничества и патернализма, поэтому его надо, как слепых котят, вести вперед просвещенному правителю, опирающемуся на группу элитарных интеллектуалов. Этакий автократический Сингапур, только увеличенный, если брать территорию и население, в тысячи раз. На самом деле нужно идти от обратного: всеми возможными способами освобождать людей от во многом искусственно созданных и душащих их пут безысходности и пассивности. Здесь важно участие в местных выборах — пример Москвы воодушевляет и вполне может быть тиражирован. Еще один из рычагов — гражданское просвещение, которое очень быстро прочищает мозги, засоренные всяким пропагандистским шлаком. Если же говорить об интеллектуалах, то они должны быть готовы предложить людям конкретные механизмы включенности (соучастия) любого, кто еще сохранил потенциал общественной и политической активности, в преобразование своего микрорайона, региона, страны.
Уповать лишь на «монаршую» волю к реформам в приложении к безмолвствующему народу — значит обрекать Россию на очередные тяжелые испытания.