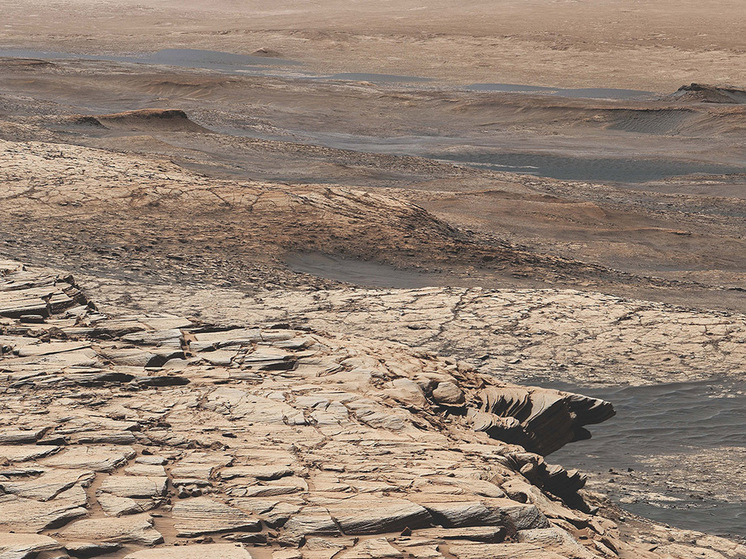— Это было под Кожевней. Когда пробивались к России. К границе… Пацаны поняли, что их сейчас убьют. И начали друг друга называть по именам. Перед смертью. Они до этого только позывные знали…
— И их убили?
— Многих… Много имен уже не узнать. Убили одного, другой его закопал, а потом и его накрыло. Это привычное дело. Почти никого нет из тех, кто начинал. Все мои друзья настоящие… их всех убили…
Так говорит молодой упитанный румяный парень. Позывной «Скала».
«Скала» говорит горькие слова, но глаза лучатся природной жизнерадостностью и отражают солнце. Наш разговор обрывочен из-за грохота. Мы с ним под оглушающим обстрелом на «передке».
Оглядываю его наливные щеки и пузико под броником. Если убрать весь камуфляж, обрядить в костюм с галстуком, подойдет позывной «Депутат».
Дурацкое воображение, вчера еще я сидел в думском зале, вот и вообразил…
Будет такой архиважный господин. Вместо автомата — кожаная папочка. Вижу его на трибуне, монотонно, однако со все тем же неистребимым жизнелюбием и нежным хэканьем представляющего поправку номер 7а к пункту 4 статьи 75 закона о налогообложении юрлиц…
Неуместные шутки… Нет, он простой солдат из Макеевки, который кривит губы наперекор грохоту, поправляя черный АКС, с рожками, обмотанными изолентой, и каждый день готовится к тому, к чему невозможно приготовиться.
Отдать жизнь. Вот и все.
Здесь погибают люди каждый день.
Здесь погибли тысячи мирных людей.
Здесь тысячи ополченцев погибли с именем России.
Понимает ли это Россия?
Написал четыре фразы, и получилось точно бы четверостишие. Эпитафия не только погибшим, а и живым. Поминовение со смертельным прицелом на будущее.
Я был здесь не раз. Видел истребители, роняющие бомбы на аэропорт; животных, лижущих свежие останки; сидел в Ясиноватой в подвале при свечах и плакал вместе с плачущими детьми из-за их плача; бегал по лестнице девятиэтажки, сотрясаемой мощными ударами; переходил реку вброд…
И все это ерунда по сравнению с опытом любого жителя этих мест.
Кто будет вести подсчеты, запоминать судьбы и имена?
Село Сокольники под Славяносербском на Луганщине.
Сергея Анатольевича Вольвака сорока семи лет «айдаровцы» забрали из дома на глазах жены и детей. Уточнили фамилию, имя, отчество. Вывели на огород, избили. Жену отгонял автоматчик. Наконец застрелили в затылок. Он не был ополченцем. Единственная вина — принимал активное участие в организации референдума.
Вместе с Сергеем в селе расстреляли и организатора референдума 60-летнюю Ирину Викторовну Пащенко, любимицу жителей, которые оставили о ней слезные воспоминания. Перед расстрелом тоже избили.
Эти люди поверили, что можно как в Крыму. Донбасс шел на референдум как на праздник. Цветы, воздушные шары, музыка, мужчины повязали галстуки, женщины нарядились…
Получили смерть. А еще им говорят: вы — Украина.
***
Вчера весь день я сидел в зале под пышной люстрой.
Люстра посверкивает переливчатой чешуей, иногда я задираю голову и подначиваю: «Спорим, не упадешь», она отменяет время, она — хрустальная богиня заседалова, есть только ее неутомимый свет, и не важно, что за пределами: чистое небо или снегопад, солнце или темно.
Сижу впереди, как отличник, а совсем рядом, справа, — ложа правительства с известными лицами. Иногда оборачиваюсь на зал, и выцепляю взглядом известные лица за узкими партами. Ряды с партами, где ютятся по двое, спускаются сверху вниз, как в студенческой аудитории. Сбоку от президиума с известными лицами стол с пластиковыми бутылочками воды. Депутаты подходят, разбирая с газом и без, сталкиваются, ручкаются, важно уступают друг дружке путь к водопою.
— За! За, коллеги, голосуем! — несется чье-то отрывистое над рядами.
— Голосуем за! — подхватывают голоса.
За голосуем!
Перекличка птиц, быть может, горделивых гаг, разместившихся обширной стаей на льдине…
— Не голосуем? — ослышавшись, привстав над партой, комкает носовой платочек некий новичок.
В середине зала в сердцевине фракции большинства дородная женщина в атласном лиловом платье, вытянув вверх руку, сочным голосом исполняет арию Брунгильды:
— За! За! За!
На стене на экране загорается результат, и кто-то грубовато окликает новичка:
— А ты чего? Не успел?
— Я? — он взвизгивает с растерянной улыбкой. — За я!
Он не гага. Зая.
***
— Я из Зайцева.
Невысокая старушка держит меня и не отпускает.
Мы стоим с ней в библиотеке многострадального города Горловки у стены с Тарасом Шевченко, нарисованным веселыми мазками.
— Как там у вас?
— Я к вам специально сюда, — она сжимает мою ладонь, жестко и требовательно, а смотрит куда-то мимо.
— Стреляют?
— Ага. Половина поселка наша, половина не наша. Соседей двоих убило. И всех моих домашних: сначала собаку в будке, потом кота. Да я ж не о том…
— Сегодня, говорят, стреляли?
— Ага, — она раздражается на отвлекающую тему и вместе с новым пожатием колет ногтем, — Всегда это. Ночью три дома сгорело. Снаряды-то прям и угодили. Я ж про другое, — и она выпаливает по-прежнему в сторону, кому-то невидимому: — Я слыхала: есть в Москве общество сказочников.
— Что?
— Я сказки сочиняю. Жизнь-то такая пошла, страшнее страшной сказки. Но у меня сказки добрые. Хочу, чтоб детишки их узнали. А книгу не издашь. Вот и вопрос. Как мне вступить в общество сказочников?
Ау, сказочники! Отзовитесь, свяжитесь со сказочницей из Зайцева, где круче любого вымысла фронтовая быль.
В библиотечном зале битком. Много школьных учителей. Проклятые вопросы: «Что дальше?», «Когда перестанут нас убивать?»… Горе вперемешку с надеждой. Женщина в розовом сарафане протягивает белое полотенце, вышитое васильками и маками.
— Наш кружок называется «Увлеченность». Рукоделие и стихи… Рядом снаряды падали, стекла повылетали, мы в подвал спрятались, читали по памяти. Свое и Есенина, Ахматову, Блока.
— Ребята-ополченцы с передовой заходят, — тихо говорит за чаем директриса библиотеки, — берут русскую классику. Один парень «Обломова» взял. А вернул его товарищ. И закладка там посередке. Значит, уже недочитает.
***
У каждого депутата свой экранчик. В него макают палец, если просят слова или выбирают «за», «против», или «воздержаться». Иногда кто-нибудь задевает экранчик, и в микрофон объясняет: «Я случайно» под будничный смешок окружающих. А некоторые выступают по любому поводу. Видимо, им очень важно повышать статистику активности. Имярек отметился столько-то. Поначалу эти реплики с мест вызывают ощущение театральной странности, привет Эжену Ионеско, тем более когда банален предмет обсуждения, вроде договора о дружбе РФ и Гаити. Но быстро привыкаешь…
Не хочу привыкать. Не хочу тонуть и утонуть в кожаном кресле. Пойдя в депутаты, я поставил над собой эксперимент: остаться собой. Непонятный физический закон: самые смелые и суровые менялись тут на холено-благостных. Что-то гормональное. Как будто им открывали опустошающий секрет или за обедом подмешивали нечто в суп… Нега во взглядах и телодвижениях. Даже у вояк грозные голоса становились вкрадчивыми, а задубелая кожа обретала глянцевитость.
И эта печать на всю жизнь у давно выпавших из круга.
Истина в вине, а Дума в киселе. Теперь не нальют, никаких тебе коньячков, как в былые лихие… Зато всегда в наличии ягодный кисель. Полные стаканы киселя. Депутатская столовка, просто и мило, салатик, первое, второе. Скорее к третьему. Чмокнуть студенистую поверхность, можно чуток укусить, и вот уже поплыл сладкий, теплый, мягкий, убаюкивающий, наивный, вельможный, брусничный, клюквенный, клубничный… За, против, воздержаться… По ведению… Коллеги… Вносится поправка сорок четыре…
Тайна киселя. Почему-то я чувствую, что кисель — главный здешний напиток.
Летом накануне выдвижения в депутаты товарищи пригласили меня в это здание на разговор. Я приближался к серой глыбе сквозь торопливый тополиный пух, из-за которого все было как во сне или при просмотре старой пленки с белесыми промельками, воспринимаясь обостренно и отчасти пророчески. Шел и гадал: будет ли эта глыба частью судьбы, буду ли привычно, автоматично, вслепую идти этим тротуаром, устремляться к этому парадному подъезду, тянуть вон ту дверь за золоченую ручку?
Гадания прервались в будке у входа.
Привратник взял паспорт, сверил с компьютером. Удовлетворенно хмыкнул. Перевел на меня цепкие глаза. Что-то ему не понравилось. Что-то щелкнуло у него в черепной коробке. До меня даже донесся этот пластмассовый щелчок. Он задержал паспорт в руке. «Странный малый», — холодной волной пробежало по его лицу, от желваков до бровей. Он повертел паспорт со всех сторон и начал медленно листать, придирчиво всматриваясь.
— Послушайте, меня ждут.
Он не ответил. Снял трубку и быстро сказал какой-то пароль.
— В чем дело? — спросил я.
— Разберемся, — процедил он, тоскливо посмотрел на подъезд, опять, строго, на паспорт.
Он снова снял трубку и что-то нервно спросил.
Наконец появился офицер, тоже в форме. Привратник начал ему вполголоса докладывать, бросая на меня, подозрительного типа, злорадный взор, мол, попробуй сбежать, попался, повяжем…
— Сколько можно ждать? — спросил я.
— Разберемся, — сказал офицер, и, забрав паспорт, скрылся в Думе.
Я ждал сиротливую вечность в душной будке, а мимо сновали туда и обратно костюм за костюмом, беспрепятственно…
Появился офицер: шел вразвалочку, привратник жадно смотрел на него.
— Все чисто, — буркнул старший, и нехотя протянул мне паспорт: Но мы вас не пустим.
— Не пустите?
— Не пустим.
— Почему?
— Имеем право. Звоните пригласившему депутату. Если он лично выйдет, тогда…
Я позвонил. Депутат спустился, недоуменный. Через пятнадцать минут в его кабинете я дал согласие сам стать депутатом.
Такая история. Про что? Про стражу-самодуров? Или про чьи-то козни? Или про чуждый этому зданию видок пришельца, посланника улиц и тополиного пуха? Однако до того ни разу при заходе в любое госучреждение, включая это, не случалось проблем. Или мистика обыкновенная? Знак судьбы, которая показала ясно: нелегок твой вход в Думу.
Политика — слишком мелкое слово. Судьба, судьба… Верное медное слово.
***
— Cколько это все может продолжаться?
— Сергей, а можно я спрошу? Сколько это все может продолжаться? Давай я сам этот вопрос задам. Поверь, мне этот вопрос хотелось бы задать не только тебе. Но и Госдуме, правительству, вообще России. Мы воюем тут третий год. Мы хотим на Родину, вернуться в Россию. Сколько еще мы тут должны провоевать? Что мы должны еще сделать? Так… Ага, стреляют… Надо ускориться… — человек за рулем надавил на газ и сделал звук громче.
На горе стоял казак,
Он Богу молился
За свободу, за народ.
Низко поклонился.
Ойся, ты ойся,
Ты меня не бойся…
Песня из открытого окна. Черный джип мчит по пустой дороге навстречу солнцу. Вокруг — словно бурей покошенные деревья. На рулевом тельник и камуфляжная куртка. Он — глава Донецкой республики Александр Захарченко, позывной «Захар».
Машина влетает под мост. Свист и грохот. Долбят из всех орудий.
Укрытие между бетонными сваями, пустоты заставлены ящиками из-под патронов и снарядов, но пустот много, и лица лоснятся от солнца, блестят стволы.
— Засекли, достать хотят, — поясняет румяный «Скала».
«Захар» (он в тельнике и новеньком камуфляже) накидывает на меня такую же, как у него, только старую куртку:
— Лучше не выделяться. Снайпера работают.
Куртка уютно пахнет пожухшими травами.
— Я в ней всю войну прошел. Видишь, прострелена.
Нащупываю отверстия в ткани.
На «передке» можно понять старомодное выражение «рой пуль». Рвутся мины. Грохочет так, что даже бывалые вздрагивают и пригибаются.
— Третий год воюю, все никак не привыкну, — оправдывается мужик с седой щетиной.
У него позывной «Гроз». Не «Гроза», а «Гроз». Это по специальности. Горнорабочий очистного забоя.
Голоса ополченцев деловиты:
— Тяжелым чем-то бьет, тварь.
— О, близко легла, сука!
— Из АГСки лупит…
— У них там танк по ходу…
«Захар» роется в мешке широкой пятерней, достает батон, консервы, охотничьим ножом вскрывает банку, делает большой бутерброд.
Камуфляжная девушка, темные волосы стянуты назад, приносит несколько тарелок похлебки. Ставит на железную крышку, прикрывающую железную бочку. Даша который месяц на передовой, готовит бойцам, и муж ее здесь же воюет.
— Вы еще жаркое из фазана не пробовали, — улыбается мне скромно и лукаво. — Да, тут фазаны в развалинах бегают. Ребята их ловят.
Говорю:
— Такое меню в Думе и не снилось.
— Вот и надо ваших депутатов вывозить, пущай угощаются.
В ответ сладостно скалится щуплый смуглый «Марик», он из Мариуполя. Восемь раз был ранен.
— Каждый день гибнут пацаны, — говорит он, уже зло. — Все время…
***
Из Донецка я вывесил в Фейсбуке фото с Захарченко и приписал: вокруг грохот войны. И началось. Немедля прискакал кривляка-репортер респектабельного московского издания и принялся уличать в обмане. Не было никакого боя, потому что на фото у меня чистые ботинки. Еще глуховатый от трехчасового ада, я даже зачем-то пытался возражать. А разоблачитель наступал, ободряемый лайками армии кривляк, их хи-хи, гы-гы, да убогой бранью. А потом пришла совестливая журналистка-максималистка и устроила допрос: какое я имел право, да хоть бы и в свободный день, поехать в Горловку и Донецк, меня мандата надо лишить как прогульщика… А потом навалило полчище то ли троллей, то ли гномиков, и я узнал, будто на фотографии мы с Захарченко сидим в креслах сбитого малазийского «Боинга». А потом этот дичайший бред понесся на десяток прогрессистских сайтов…
Тоже война и тоже шум.
Свистоплясочка.
***
Утром, вернувшись из Донбасса, в Думе на парадной красноковровой лестнице под золотым гербом натыкаюсь на стайку депутатов.
— Салют! Присоединяйся! — бодрым тоном физкультурницы предлагает статная красотка. — Это называется манекены.
Рядом, смущенно покачивая головой, мнется депутат с северов.
— Манекены? — переспрашиваю.
— Ты че, темнота? Флешмоб такой. Мы застываем. И нас фоткают. Хотим в зале такой же… Чтоб все фракции замерли.
— Прикольно, — отзываюсь в тон, а сам представляю: все 450 депутатов прикинутся неживыми.
Замрут на полминутки.
Из солидарности с тысячами замерших навсегда.