— Валентин Михайлович, договор, подписанный 25 лет назад, немцы справедливо считают большой победой своей дипломатии. А чем это было для нас?
— Действительно, это знаковое событие в истории Германии, с которым немецких граждан можно и должно поздравить. Что же касается его значения для нашей страны, то, как констатировал Манфред Вернер, занимавший в те годы пост генерального секретаря НАТО, возглавляемый им блок без единого выстрела добился обнуления интересов СССР в европейских и мировых делах.
— Но после крушения Берлинской стены выбор вариантов дальнейшего развития событий был, прямо скажем, невелик.
— Объединение, конечно же, было неизбежно. Но этот процесс мог идти по-разному. Я в числе других выступал за учреждение германской конфедерации. Именно такой вариант однозначно предпочитали Великобритания и Франция, опасавшиеся, что, став унитарным государством, Германия будет доминировать в Европе. За ту же модель поначалу высказывался и Бонн. В разработанном Хорстом Тельчиком, главным советником канцлера Коля, плане из 10 пунктов первым шагом значилось сближение ФРГ и ГДР, следующим — создание конфедерации. Ну и так далее. События приняли другой оборот после того, как Шеварднадзе (министр иностранных дел СССР в 1985–1990 гг. — «МК») попался на уловку своего немецкого визави Геншера, предложившего заменить формулу «четыре плюс два» на «два плюс четыре». В политике перестановка слагаемых может иметь роковые последствия. Поясню: модель «четыре плюс два» предполагала, что СССР, США, Англия и Франция условятся, каким должен быть статус объединенной Германии. И на основании этих предписаний ФРГ и ГДР выработают конкретную модель объединения. Вариант «два плюс четыре» означал, что, сговорившись, немцы представляют результат этой договоренности «четверке». А советская сторона и дальше поплелась на поводу у немцев.
— Почему же Англия и Франция не настояли на своем?
— Лондон и Париж были связаны обязательством в рамках НАТО — солидаризироваться с любыми боннскими установками по объединению Германии. Тэтчер и Миттеран намекали, что ситуация могла бы измениться, если бы Москва настояла на идее конфедерации. Но Горбачев заявил тогда, что Франция и Великобритания должны сами защищать свои интересы, что мы за них стирать их грязное белье не будем.
— А какова была позиция американцев?
— Для американцев — они прямо говорили об этом — главным было участие объединенной Германии в НАТО. При этом Горбачева заверяли, что после поглощения ГДР Федеративной Республикой НАТО ни на дюйм не продвинется дальше на восток.
— Но Горбачев сегодня утверждает, что на самом деле никто ничего такого не обещал. По его словам, это не более чем раздутый прессой миф.
— Если Михаил Сергеевич действительно выдает это за миф, то это не делает ему чести. Это смахивает на переписывание истории. Соответствующие высказывания Джеймса Бейкера, тогдашнего госсекретаря Соединенных Штатов, отражены в протоколах переговоров. Я неоднократно обращал внимание Горбачева на то, что полагаться на словесные обещания Вашингтона нельзя. Единственное, что как-то может связать руки американцам, — это документ, ратифицированный сенатом. Горбачев отнекивался: «Ты напрасно сгущаешь краски, я готов верить моим партнерам».
— Горбачев был настолько наивен?
— Не могу не вспомнить, как Сергей Федорович Ахромеев (в 1984–1988 гг. начальник Генштаба, с марта 1990 года советник Президента СССР по военным делам, покончил с собой 24 августа 1991 года. — «МК»), уходя в июне 1991 года в отпуск, сказал мне: «Я раньше думал, что Горбачев разрушает наш оборонительный потенциал по незнанию. А теперь я пришел к выводу, что он делает это сознательно».
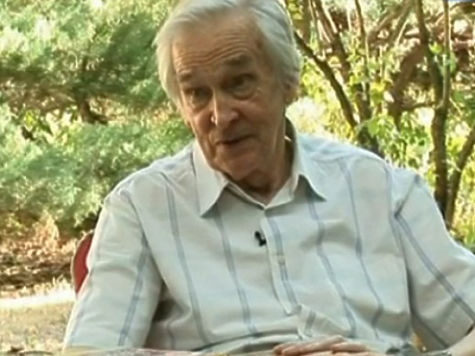
— Вы согласны с такой оценкой?
— Многие годы общения с Ахромеевым убедили меня, что его суждения следует принимать всерьез.
— Какова в таком случае была цель Горбачева?
— Похоже на то, что державные интересы отступили на второй план. Он полагал, что спасет свое президентское кресло, пойдя на максимальные уступки США и их союзникам. В этом смысле Горбачев, несомненно, был наивным человеком. Ну а западные партнеры, почувствовав его слабину, использовали это на всю катушку. Сошлюсь на следующий эпизод. В 1990 году во время переговоров с Бушем в Белом доме Горбачев пишет мне записку: «Не хочешь ли высказаться по германским делам?» Пишу в ответ: «Готов». И излагаю нашу позицию: если мы равные партнеры, если мы исходим из принципа неделимой безопасности, то должны одинаково подходить к участию двух германских государств в военных блоках. Вопрос вхождения ГДР в Организацию Варшавского Договора имеет для нас не меньшее значение, чем для вас — членство ФРГ в НАТО. Воцаряется мертвая тишина. Буш предлагает прерваться и продолжить переговоры в Кэмп-Дэвиде, его летней резиденции. В Кэмп-Дэвиде у двух президентов проходит беседа с глазу на глаз, присутствуют только переводчики... И Горбачев сдает все советские позиции.
Перед переговорами Горбачева и Коля в Архызе я вновь попытался повлиять на ход событий. Я высказал тогда президенту свои опасения, предложил выдвинуть идею проведения общегерманского референдума о безъядерном, нейтральном статусе страны. По надежным оценкам, до двух третей немцев были бы готовы проголосовать «за». Он ответил: «Сделаю все что смогу, но, боюсь, поезд уже ушел...» Те уступки, на которые Горбачев пошел в Архызе, — он согласился на вывод советских войск и на вхождение всей Германии в НАТО, — не могут быть оправданы ни с позиций того момента, ни с точки зрения сегодняшнего дня. Кстати, Коль тогда спрашивал нашего президента, как поступить после объединения с бывшим руководством ГДР. Мне об этом рассказал Вилли Брандт (канцлер ФРГ в 1969–1974 гг. — «МК»). Ответ был такой: «Вы, немцы, сами разберетесь в этом вопросе». Партнеры очень удивились. Они ждали, что Горбачев будет настаивать на иммунитете Хонеккера и других бывших руководителей от уголовного преследования, и были готовы согласиться на это.

— Как много представителей советского руководства разделяли тогда ваши взгляды?
— Недовольных было не занимать. Правда, сомнениями чаще делились в узком кругу. Но были и те, кто высказывался открыто. Например, тот же Ахромеев или Филипп Денисович Бобков (на тот момент — первый зампредседателя КГБ СССР. — «МК»).
— Вернемся к событиям осени 1989 года. Насколько я понимаю, революция в ГДР вас не удивила: еще в марте 1988 года вы написали записку генсеку, в которой говорилось, что в ближайшее время ситуация в ГДР может быть полностью дестабилизирована. Что, кстати, вы тогда имели в виду?
— По спецканалам и из доверительных источников поступала информация о том, что в ГДР назревают беспорядки по типу 1953 года (события 17 июня 1953 года — забастовки и демонстрации с экономическими и политическими требованиями, подавленные при участии советских войск. — «МК»). Часть боннских политиков склоняла американцев к форсированию антиправительственных выступлений в Восточной Германии. Но тогда, в начале 1988 года, Вашингтон нашел, что «плод еще не созрел».
— Означает ли это, что протесты были инициированы извне, то есть что, выражаясь современным языком, это была цветная революция?
— Воздействие извне имело место, но не это являлось главным. Немцам все больше досаждал раскол нации. СЕПГ, являвшаяся правящей партией в ГДР, пользовалась в 60-е, 70-е и в начале 80-х гг. стабильной поддержкой примерно 40 процентов граждан. К концу 80-х популярность партии резко пошла на убыль. В упомянутой записке, как и в других моих аналитических материалах, ложившихся на стол генсека, проводилась мысль о необходимости менять нашу официальную позицию в отношении объединения Германии. Чтобы идти в ногу со временем, следовало отдать дань настроениям на востоке и западе, точно просчитать, где пределы наших возможных подвижек и где стоит проявить инициативу. Михаил Сергеевич, насколько мне известно, записки читал, но реакции с его стороны не было.

— А тогдашнее руководство ГДР согласилось бы пойти на сближение с Западной Германией?
— Думаю, да. Если бы мы занимали четкую, твердую позицию в этом вопросе, они вынуждены были бы с ней считаться.
— Но если это процесс, который привел к падению Стены, был совершенно естественным, то разве можно было удержать его в рамках конфедерации? Ведь понятно же, что в любом случае западная и восточная части Германии скоро слились бы в единое целое.
— Убежден, что вариант конфедерации был вполне реалистичным. Международная практика знает немало примеров этому. Соединенные Штаты — федерация, но ее субъекты, штаты, имеют очень большую самостоятельность. Процветающая Швейцария — классическая конфедерация. Нечто похожее могло быть и здесь: относительная независимость во внутренних делах и общая военная и внешняя политика. Если бы такая конфедерация состоялась, она просуществовала бы, уверен, не один год, а может быть, даже не одно десятилетие. Но мы пошли по самому легкому и самому ущербному пути. В том числе и с точки зрения экономики. Мы оставили в ГДР почти на триллион марок движимого и недвижимого имущества, а получили взамен 14 млрд на строительство казарм для выводимых советских войск. Не были списаны наши долги перед ГДР и ФРГ. Этот вопрос даже не поднимался. А ведь в свое время Эрхард (Людвиг Эрхард, министр экономики ФРГ в 1949–1963 гг., канцлер в 1963–1966 гг. — «МК») прощупывал, не согласится ли Москва на западные условия объединения Германии, если получит в порядке компенсации более 120 млрд западногерманских марок. По нынешнему курсу — около 250 млрд долларов.
— Когда и в какой в какой форме было сделано это предложение?
— Если мне не изменяет память, это было в 1964 году, когда Эрхард сменил тогда Аденауэра (глава правительства ФРГ в 1949–1963 гг. — «МК») на посту канцлера. Информация была передана по дипломатическим каналам — в неформальной, ни к чему не обязывающей стороны форме.
— То, что называется зондажом?
— Да, зондаж — это самое подходящее понятие.
— И чем дело кончилось?
— Мы просто не откликнулись. Был еще один похожий эпизод — уже при Горбачеве, в начале перестройки. Тогда речь шла о 100 млрд марок — в обмен на то, что мы отпустим ГДР из Варшавского договора и предоставим ей нейтральный статус, схожий с австрийским. Не стану раскрывать, кто передал это сообщение, хотя этого человека уже и нет в живых. Это опять-таки был зондаж, который вновь был оставлен без внимания.
— Понятно: не могли поступиться принципами.
— Ну, если говорить о принципах, то следует напомнить, что отнюдь не Советский Союз был инициатором раскола Германии. Еще в 1941 году Сталин заявил: «Гитлеры приходят и уходят, Германия и немецкий народ остаются». А в 1945 году, при обсуждении германского вопроса на Потсдамской конференции, он четко зафиксировал советскую позицию: СССР против раскола Германии. Но Лондон и Вашингтон тогда категорически отказывались рассматривать Германию как политическое целое. Согласно их наметкам, предполагалось появление на месте Третьего рейха 3–5 государств.
— А в чем был расчет Сталина?
— Он считал, что раскол Германии противоречит стратегическим интересам СССР. Это укрепило бы претензии Соединенных Штатов на мировую гегемонию. В 1946 году Сталин предложил провести во всех четырех оккупационных зонах свободные выборы по единому избирательному закону, создать по их результатам общегерманское правительство, заключить с ним мирный договор и в течение одного-двух лет вывести все оккупационные войска. Естественно, одновременно должна была быть проведена глубокая демилитаризация, денацификация и декартелизация страны.
— Сталин жертвовал советской зоной в расчете на распространение советского влияния на всю Германию?
— Нет, таких претензий не было. Германия должна была стать нейтральным государством, не входившим ни в какие блоки. Но советские предложения были отвергнуты. Американцы и их союзники взяли курс на создание западногерманского государства, которое было бы встроено в антисоветский фронт. Но даже после того, как были созданы ФРГ и — несколько позднее — ГДР, Сталин не оставлял свою идею. Во время встреч с руководителями ГДР он настаивал: «Никаких социалистических экспериментов, ограничьтесь буржуазно-демократическими реформами!» Последнее предложение, касающееся объединения, было сделано им в марте 1952 года, — знаменитая «Мартовская нота». В ней были все те же пункты: общегерманские выборы, создание национального правительства, мирный договор, вывод войск. Но Аденауэр заявил, что будет вести переговоры с русскими только после того, как ФРГ войдет в Североатлантический альянс. Многие немцы называли это упущенным шансом.
— Но после смерти Сталина позиция СССР резко изменилась.
— Да, был взят курс на построение социализма в ГДР. Свою роль сыграл и субъективный фактор. Лаврентий Берия, тогдашний глава МВД, задействовал свою «личную агентуру» для того, чтобы выяснить, чем нам отплатит Запад, если мы откажемся от контроля над Восточной Германией. По оценке разведслужб, ГДР была недостаточно жизнеспособна. И пока не произошел крах, вызванный внутренними причинами, Берия считал целесообразным изучить, так сказать, альтернативные сценарии.
— Правильно, как выяснилось, считал.
— Трудно сказать, насколько позиция Берии была адекватна тогдашним политическим реалиям, но никакой измены в таком зондаже, конечно, не было. Тем не менее после ареста Берии Хрущев сделал это главным пунктом обвинения против низвергнутого министра: пытался якобы «сдать империалистам» нашего союзника — Германскую Демократическую Республику. Но все-таки главной причиной смены курса были события июня 1953 года. До этого западные державы не принимали наши предложения об общегерманских выборах, поскольку опасались, что немцы могут проголосовать за нейтральную или даже просоветскую Германию. После бурных июньских демонстраций стало очевидно, что настроения по обе стороны границы радикально изменились. Теперь свободных выборов стали бояться мы.
— И после этого «германский вопрос» был почти на 40 лет закрыт?
— Нет, в середине 1950-х была предпринята еще одна попытка сближения двух германских государств. После подписания австрийского государственного договора, по которому Дунайская республика обрела полную независимость, у западногерманских политиков возник вопрос: нельзя ли нечто подобное предпринять и в отношении Германии? В Восточный Берлин неофициально прибыл Фриц Шеффер, министр финансов в правительстве Аденауэра, с предложением создать германскую конфедерацию. Мы, эксперты, — я тогда работал в Комитете информации при МИД СССР — убедили Хрущева поддержать этот план. В свою очередь американцы убеждали Аденауэра не отвергать инициативу Шеффера, доказывая, что большее, ФРГ, в недалекой перспективе поглотит меньшее, ГДР. Однако канцлер заявил, что идея конфедерации — уловка Ульбрихта (Вальтер Ульбрихт, первый секретарь ЦК СЕПГ в 1950–1971 гг. — «МК»). Что, заполучив дипломатическое признание ГДР, восточные немцы тут же выйдут из игры. Кончилось это тем, что Шеффера выгнали из правительства.
— Может быть, это и впрямь было уловкой?
— Насколько мне известно, никакой уловки не было. Скажу так: у руководителей ГДР было ничуть не меньше оснований не доверять Аденауэру, чем у Аденауэра — не верить руководству ГДР.
— Но ведь большее и впрямь неизбежно поглотило бы меньшее.
— Ну, поглотить было бы довольно сложно, потому что в ГДР стояла наша армейская группировка. Вывода оккупационных войск из Германии этот вариант не предполагал — на это не шли в первую очередь Соединенные Штаты.
— Удивительно все-таки, как при такой готовности Москвы к компромиссам могла возникнуть Берлинская стена. Ведь это-то, вы не будете спорить, было нашей инициативой.
— Не нужно забывать, что до возведения Берлинской стены американцы разделили Германию «атомным поясом», протянувшимся вдоль всей восточной границы ФРГ — от Дании до Швейцарии. Ядерные заряды были подведены под мосты, плотины и другие важные объекты, подготовлены к затоплению обширные районы в долинах крупных рек. Гельмут Шмидт (канцлер ФРГ в 1974–1982 гг. — «МК»), с которым я давно знаком, как-то признался в нашем разговоре, что о существовании «пояса» ему стало известно только в 1969 году, когда он стал министром обороны в правительстве Брандта. «Ну а мы, — говорю в ответ, — узнали о нем, когда его только начали возводить». «Пояс» должен был упредить прорыв советских войск на Запад в случае начала войны.
— А были, кстати, у нас такие планы?
— В отличие от американцев и британцев, у которых уже в 1945 году были планы «превентивной войны» против СССР — «Немыслимое», «Тотэлити», «Пинчен», «Бройлей», а потом «Дропшот», — у нас ничего похожего не было. Да, довольно часто можно слышать, что в 1945–1946 годах мы собирались наступать до Атлантики, но это полный бред. Сталин дал четкое указание Соколовскому (Василий Соколовский, в 1946–1949 гг. главнокомандующий Группой советских войск в Германии. — «МК»): в случае агрессии со стороны США и их союзников — типа операции «Немыслимое» — не наступать на Запад, а отойти на линию Одер–Нейсе. Лишь после того, как мы оправимся от первого удара, предполагалось вернуться на демаркационную линию, определенную в Постдаме. Так вот стоял вопрос.
— Но, может быть, не все наши планы еще рассекречены?
— Когда Ельцин пришел к власти, он потребовал прояснить два вопроса: не вынашивал ли Советский Союз планы упреждающих ударов по Германии в 1941 году и по западным странам в послевоенный период. Его помощники прошерстили все архивы и доложили, что таких документов не нашли. Да их и не могло быть в принципе.
— В общем, воздвижение Стены было ответной мерой?
— Совершенно верно. По существу, раскол Берлина, а по большому счету — и всей Германии, начался в 1947–-1948 годах, когда западные союзники вычленили свои секторы из Большого Берлина, столицы советской зоны, и провели там денежную реформу. Это было явным нарушением Потсдамских соглашений. Я совершенно не согласен с теми, кто главной причиной появления Стены называет бегство людей на Запад. Да, такой мотив, конечно, играл свою роль, но важнейшими были вопросы безопасности. В том числе — экономической. Открытая граница обходилась ГДР в 38–40 млрд марок ежегодно. Как справедливо отмечал Бруно Крайский (федеральный канцлер Австрии в 1970–1983 гг. — «МК»), государство не может существовать, не защищая своих границ.

— Давайте теперь о будущем. Договор, подписанный четверть века назад, прекратил оккупационный режим в Германии, но ряд ограничений суверенитета остался: Германия не может иметь оружие массового поражения, требовать вывода войск союзников со своей территории, проводить референдумы по военно-политическим вопросам... В общем, есть мнение, что рано или поздно встанет вопрос о полноценным мирном договоре между Германией и ее победителями.
— Никакого мирного договора, думаю, не будет: Советского Союза больше нет, а американцам такой договор не нужен. Их полностью устраивает нынешняя ситуация, позволяющая им оказывать давление на Германию, а через нее — на всю Европу.
— Ну а сама Германия может вновь пойти по скользкой дорожке гегемонии, как этого опасались некоторые наши союзники по Второй мировой?
— Военным путем, я уверен, Германия никогда больше не пойдет. Немцы умеют учиться у истории. Они будут наращивать свое влияние, используя свое выгодное географическое положение, свои интеллектуальные, научные, технологические возможности, свою знаменитую дисциплину. То положение, которое они занимают сегодня в Европе, показывает, что этот путь намного эффективнее военного.
— В недавно прочитанных мною мемуарах бывшего руководителя службы военной контрразведки ФРГ Герда-Хельмута Комоссы есть любопытный пассаж: «Сейчас уже поколение внуков начинает задавать вопросы. «Дедушка, но это ведь несправедливо», — сказал мой внук Тобиас, когда я рассказал ему о моей утраченной родине — Восточной Пруссии... И это действительно несправедливо, а прочный мир можно построить только на основе справедливости». Интересная мысль?
— Могу вам также сказать, что в советские времена некоторые туристы из ГДР и из ФРГ, приезжавшие на отдых в Сочи и Крым, сетовали: «А ведь все это могло быть наше...» И это докладывалось, между прочим, нашему высшему руководству. Но такого рода мечтания, разумеется, нельзя рассматривать всерьез. Что же касается претензий по поводу утраченных территорий, то они давно уже выдвигаются определенными политическими силами в Германии и наверняка будут выдвигаться впредь. Но о справедливости следует думать до развязывания войны. Тогда не нужно будет лить слезы по утраченным территориям.






















