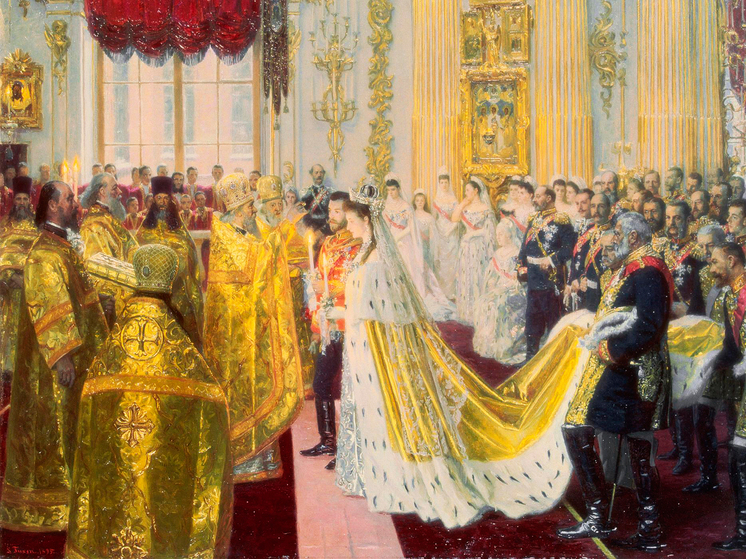Нигилизм, поиск правды…
Первые два этапа благополучно пройдены. Многие знания — многие печали: огонек светлой и наивной романтики померк в его глазах.
Разочарование и просветление…
Третий этап затянулся. Настолько, что самому страшно стало. Но еще чуть-чуть, и...
Он что-то понял. Что-то очень важное. Что вот только — и сам пока не разберется. Накануне 45-летия экс-рулевой культового “Наутилуса” Вячеслав Бутусов настроен явно на философский лад.
КАК ПОЕТ
— Слав, почему вы поете с закрытыми глазами?
— Не знаю, это уже выродилось в привычку. В такую, я бы сказал, безответственную. Никак я не мог побороть в себе эту бурю кровяного давления, когда выходил на публичное обозрение. Голова становилась, как гиря просто, резиновая. А когда закрывал глаза… Наверное, это была своего рода защита. Оперативный прием для того, чтобы побороть состояние внутренней неразберихи.
— От которой хотелось забиться в дальний угол?
— Да, мне хотелось таким человеком-невидимкой прикинуться. Как-то уйти от этого натиска всеобщего внимания, от потока ненужных лучей, пронизывающих тебя насквозь. Которые в большинстве своем — всего лишь праздное любопытство. Такое, знаешь, потребительское, поглощающее.
— Так, может, лучше…
— Скафандр надеть?
— Нет, скафандр — это экстремально. Черные очки.
— Пробовал я и в очках, но как-то не свыкся с этим положением. Но я согласен: петь с закрытыми глазами — выглядит даже как-то неприлично. Вот я перестал уже об этом думать, ты напомнил — и мне стыдно сразу стало.
— Хорошая шутка.
— Не, я вполне серьезно. Это же все от непрофессионализма. Начинали мы с художественной самодеятельности, о вещах таких совершенно не заботились, не думали, что кого-то может покоробить. А потом, мы были переполнены нигилизмом, нам наплевать было совершенно: принято — не принято…
ЗАЧЕМ ПОЕТ
— Хотели мир перевернуть?
— Нет, таких мыслей у меня не было. Сейчас бы, наверное, так и заявил…
— Сейчас хотите?
— Да, но сейчас сформулировал бы по-другому. Потому что переворачивать, условно говоря, лепешку коровью — это временное изменение: то, что было сыро, станет сухим; то, что было сухим, станет сырым. Поэтому здесь, наверное, речь о том, чтобы перестать буйствовать и брюзжать, как говорит Костя Кинчев про нас с Шевчуком, — чтобы от нас какая-то польза социальная происходила.
— Дежа вю какое-то — мы с вами не в 87-м году сейчас находимся?
— А мы не задумывались об этом тогда. Были эгоистами, по сути, просто упивались тем, что нам так повезло...
— Ну а что весь этот плакатный рок с его жесткой идеологией?
— Теперь я начинаю понимать, что все это были просто игры. Сейчас у молодежи одни игры, у нас были другие. Если бы тогда кто-то из нас задумался, верим мы вообще во все это или нет, многие наверняка бы остановились.
— А миллионы подростков смотрели на вас, разинув рот…
— Мы точно так же, разинув рты, все это делали. Мы в той же игре участвовали, просто в разных ипостасях… Я ведь тоже искал выход из состояния серости, тупизны, грубо говоря. Мне казалось, что так не должно быть, не должна быть такая нудная скучная жизнь. И поэтому все время пытался найти волшебную палочку — ту, что даст человеку возможность не задумываться, не бороться, не противостоять каким-то обстоятельствам, не нужным совершенно. Я думал, что в этом какая-то панацея есть. Что, попадая в определенный круг социальный, ты себя просто ограничиваешь от всей этой тягомотины. Ну вот: как оказалось — нет.
— Сильное разочарование?
— Неизбежное, я бы сказал.
— Но не разочаровались же Кинчев, Шевчук…
— Есть те, которые не очаровывались. Я человек такой природы, что мне обязательно нужно довести себя до эйфорического, даже экстатического состояния. Иначе мне просто неинтересно. Поэтому я больше всех и разочаровался. Может быть. Но я в очарование сам себя вводил. И в этом на тот момент было мое спасение. Потому что этими грезами, искушенным воображением я себя просто как наркотиком подпитывал.
— А сейчас, значит, если о социальной пользе заговорили, вам есть что сказать?
— Нет, мне нечего сказать. Во-первых, я косноязычный человек, во-вторых, мне действительно нечего сказать. Я чувствую это: когда мне есть что сказать, я просто говорю — не задумываясь. А когда понимаю, что нужно говорить и от меня чего-то ждут, то я лучше промолчу. Потому что от этого беда происходит какая-то: обязательно такую ересь брякну, что всем кисло становится.
ГДЕ ПОЕТ
— Успех — это комфорт или дискомфорт для вас?
— Меня это взволновало. И вслед за этим волнение не улеглось — оно трансформировалось в какое-то болезненное волнение, я бы сказал, в тревожное. Когда выхожу в зал — это просто измена какая-то: мысли, что пора прекращать всю эту клоунаду в конце концов… Я в последнее время вообще не смотрю телевизор, поэтому у меня только воспоминания остались о том, как я воспринимаю себя на экране…
— Такое неприятное ощущение?
— Да-да, разочарование. Могу сказать, что я просто поражен своим несовершенством. Всегда думал, что если человеку даются такие возможности, значит, у него должна быть масса ресурсов скрытых, которые направят его к совершенству. Но вот, помню, первый раз я записался на какой-то магнитофон ленточный у своего дяди. Когда впервые услышал свой голос, я ужаснулся. И до сих пор меня это преследует.
— А как насчет: чтобы нравиться другим, в первую очередь надо нравиться себе?
— Проблема в том, что себе я нравлюсь исключительно в интимной обстановке.
— Интимная — это обязательно один?
— Да, чаще всего один. Могу сидеть с гитарой и получать от этого массу удовольствия.
— Не хочется сбежать из дому, где много детей?
— Сбежать хочется, но не потому, что много детей. А потому, что ощущаешь собственное бессилие и позор. Я все-таки единственный взрослый мужчина в семье. И сбежать хочется, просто чтобы не позориться перед родными. Когда чувствую, что в каких-то обстоятельствах бессилен, конечно, думаю: ну что, пора в горы.
— Какие обстоятельства выше вас?
— Те, которые сбивают меня с толку, которые вынуждают делать не то, что нужно. Которые заставляют меня беситься, выходить из себя и потом с трудом приходить обратно.
— А посмотришь на вас: спокойный, уверенный в себе человек.
— Это всего лишь прием. Я вынужден себя так вести. Иначе люди будут просто шарахаться.
— Все знают: в гневе вы страшны?
— В гневе я отвратителен. Но когда со стороны начинаю видеть себя, сразу как-то затухаю. Даже когда мне напоминают об этой моей отвратительности, тут же замыкаюсь в себе.
КОМУ ПОЕТ
— Слав, вы сентиментальный человек?
— Да, сентиментальный.
— Что может вызвать слезу умиления?
— Да что угодно. В общем, элемент искренности, а произойти он может в чем угодно. В основном, конечно, это дети. Хотя, ты знаешь, взрослые иногда вызывают такую слезу умиления крупную, что прямо рыдать хочется.
— Взрослые — они же черствые, жестокие.
— Вот именно поэтому. Потому что для взрослых элемент искренности — это довольно редкая случайность. Я считаю, буквально на уровне события какого-то.
— На тимуровские поступки способны? Бабушку через дорогу перевести, ребенку чужому помочь?
— На уровне порыва — нет. На сознательном уровне — да.
— Последний раз чему удивлялись?
— Да я все время чему-то удивляюсь. До умиления я очень удивился сегодня. От того, как на меня смотрел Даниил (год назад у Бутусова, отца трех дочерей, родился сын. — Авт.) Мне показалось, он до такой степени понимает, что я не понимаю, что делаю, что я даже смутился немного.
— Честно говоря, с трудом представляю вас отцом сына — дочки, кажется, вам больше подходят.
— Я тоже удивился, кстати. Был очень потрясен. И даже не был готов к этому потрясению. Находился в таком устойчивом состоянии: что вот, девочки — одна, другая, третья. И вдруг у меня родился сын. Я просто не думал, что способен, как бы это сказать… свою черствость расшевелить.
— Как это: черствость и сентиментальность?
— Наверное, моя сентиментальность просто зачерствела и превратилась в трухлявый такой пенек. Который периодически светится в темноте.
— С дочками много проблем?
— Не было бы никаких проблем, если б я был настолько совершенен, что мог выполнять все их прихоти на таком уровне, чтобы превращать блажь детскую в их же пользу… Вообще девочки — это очень, я бы сказал, нелегкая участь. Я вот смотрю на Софью, младшую, и думаю: вырастет эта маленькая девочка — и придется ей стать мамой. И тут мое сердце разрывается на части. Нет, я не выдержу такого переживания…
— То есть: Аня и Ксюша станут мамами — это в порядке вещей. А вот Софья!..
— А я не могу их воспринимать в прошедшем времени. Какие сейчас есть, такими и воспринимаю. Я вижу, что Аня — человек уже сознательный, у меня есть определенная уверенность в том, что она знает какие-то элементарные азы существования в этом нашем суетливом обществе. Ксюша тоже стремится к этой самостоятельности. А Софья для меня — пока дитя просто.
— Когда появился наследник, на душе полегчало?
— Сначала подумал, что да, я впал в такую прелесть, что со мной происходит какая-то магия веществ. На самом деле меня это просто вернуло к каким-то жизненным началам. Которые я утратил в силу своего пессимизма, уныния и тоски. И которыми отягощал себя долгие годы. А теперь вот успокоился. Еще и потому, что появился наконец в нашей семье человек, на которого все могут надеяться. Человек чистый и совершенный.
О ЧЕМ ПОЕТ
— Слав, а почему глаза у вас такие грустные? Глаза мудрого человека, пожившего. Все в этой жизни знаете?
— Да, я нашел даже оправдание такое для себя у мудреца одного житейского. Он сказал: я очень много знаю, но ничего не помню.
— Другой мудрец сказал: я знаю, что ничего не знаю.
— Ну, это уже бирюльки, это уже нечестно.
— Как мудрый человек скажите, если помните, конечно: все на свете суета?
— Конечно же, нет. Конечно, не все. Если мне претендовать на степень мудрого человека, то я должен сказать, что все на свете любовь. Потому что мудрость в этом и заключается, в смирении. На мой взгляд. Вернее, это не мой взгляд, это то, что я обрел…
— Вы как-то сказали: самое страшное — потерять связь с Богом…
— Да, но и это не моя мысль — услышал ее от людей, которых уважаю. И меня эта мысль странным образом поразила. Раньше ведь совершенно над этим не задумывался, а если и задумывался, то не понимал… Но вообще я стараюсь не говорить о Боге, чтобы не вызывать никаких дискуссий. Видимо, не готов объяснить некоторые вещи. Пока на таком уровне, знаешь, когда еще робею.
— Но знали же, о чем говорили — про “самое страшное”?
— Наверное. Знаешь, у меня по-разному все происходило. Были периоды, когда я вообще находился вне сознания своего собственного. И, так понимаю, никому от этого пользы не было, в том числе и мне. Потом настал момент, когда я понял, что мне просто страшно становится. И после этого, уже в панике, я начал хвататься за какие-то палочки. Торчащие с другого берега.
— Из десяти заповедей какая самая сложная для вас?
— Там нет ничего сложного. В том-то и дело: там все настолько просто, что я до сих пор диву даюсь. Человеку, чтобы достичь вечной жизни, достаточно одного дня. Всего лишь дня. При этом человечество тысячелетиями уже бьется головой об стенку и продолжает до сих пор в унынии пребывать. Грех — это ведь такая вещь, что мы не в состоянии отгородиться от него полностью. Наша задача проще — постараться не допустить себя в сторону греха. Вот и все.
— А вы кому-нибудь завидуете?
— Оградил меня Господь от этой нехорошей вещи. Я просто сталкивался с завистью неоднократно, понимаю, насколько это тяжелая болезнь. Зависть и жадность, надо сказать, — самые распространенные вещи в нашем мире. Самые заразные.
— Даже зависть белая?
— Нет, это уже просто нормальная любовь, житейская. Имею в виду, в смысле не обиходном, а в качественном. У меня, например, когда слышал “Лед Зепеллин”, иногда просто руки опускались. Какой смысл всем этим заниматься?! То есть эта зависть, она без вреда: я не желал зла людям — просто понимал, что они меня обскакали очень сильно.
— Что мешает в жизни?
— Моя распущенность, конечно. Леность, например. Это вообще вещь ужасная, для меня практически трагедия. То есть мне совершенно было бы не обидно, если б, например, мне лень было пить чай или есть колбасу. Но я себя ловлю на мысли, что лень поражает именно те области моего сознания, в которых наибольшая ответственность происходит.
— А что такое подлость?
— Подлость — это пустить в себя лень, потому что она все разрушает. Это предательство самого себя.
— Выходит, вы подлец и предатель?
— Конечно. И это ужасно. Без всякого смеха…