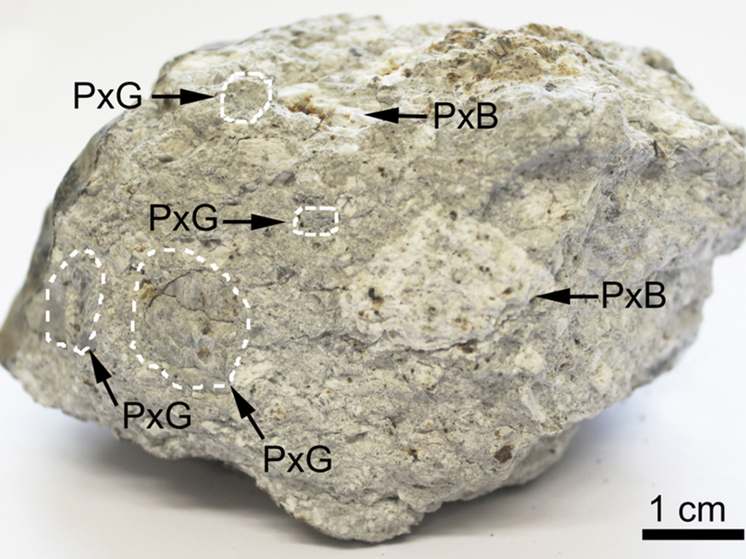Их подавали на аперитив. Перед армянским коньяком и самодельным тортом “Наполеон”. “Приходите, будут настоящие француженки!” — зазывали друг друга в гости столичные интеллигенты.
Это было лучшее блюдо диссидентской кухни Москвы 1960-х — прогрессивные, искренние, романтически настроенные мадемуазель из самого Парижа. У себя на родине они зачитывались русской классикой и вот прибыли за железный занавес, в неведомый и дикий СССР. Зачем? Чтобы постичь загадочную русскую душу!
“Мы думали, что ваши мужчины — благородные князья Мышкины, Андреи Болконские, ну или хотя бы Раскольниковы”, — с грустью вспоминают эти дамы сейчас, из своего заграничного далека.
Ни одна из прогрессивных француженок так и не осталась насовсем в Советском Союзе.
Давно распались почти все смешанные браки.
Французско-русские романы. Французско-русские обманы...
Для большинства наших вольнодумцев парижанки служили всего лишь пропуском на Запад. Звезды первыми подавали пример. Андрон Кончаловский женился на актрисе Вивиан Годе. Высоцкий — на Марине Влади. “Жена-иностранка — лучшее средство передвижения”, — любимая поговорка тогдашней московской элиты.
На самом деле француженок в тогдашней Москве жило не так уж и много — всего несколько десятков человек, весьма немногочисленная каста, “красный десант” представительниц пусть и отчасти дружественной, но все равно капдержавы.
Самые лучшие и преданные делу социализма товарищи трудились в издательстве “Прогресс” по рекомендации французской компартии. Они переводили классиков марксизма-ленинизма и получали за это зарплату (частью в валюте). Им снимали отдельную квартиру в центре. “Хотя московское жилье, конечно, оставляло желать много лучшего, — ворчит переводчица Мишель Кан. — Однажды в кровати на меня напали клопы и безжалостно искусали. Местные врачи уверяли, что это крапивница! Наверняка они знали правду, просто побоялись меня шокировать”.
Тогда Париж давился митингами протеста против войны в Алжире. Волна молодежных бунтов катилась по всей Европе. Так что первые месяцы жизни в спокойной Москве казались иностранкам безмятежным цветным сном. Но потом наступали серые советские будни.
Бесконечные часы в очередях. Слишком узкий круг общения: сплошь журналисты, диссиденты, фарцовщики и стукачи из КГБ. Телефоны прослушивались. Дальше, чем на 40 км, от столицы уезжать было нельзя.
Что оставалось здесь парижанкам? Только заводить романы!
“Редкая московская француженка не имела красивой любовной истории”, — качает головой Мирей Коган. С ней и с ее русским мужем Эмилем Коганом я встретилась в самом центре Парижа, в кафе под названием “У короля”.
— А помнишь, Мирей, как на первом свидании в Москве, на площадке-“психодроме”, что у старого журфака МГУ, ты доказывала мне преимущества колхозного строя перед частной собственностью? — спрашивает у супруги Эмиль.
— Не верьте ему, — возмущается по-русски Мирей. — Это его любимая шуточка. Я вовсе не была тогда такой э-э… дремучей коммунисткой.
Она приехала в Москву на год на стажировку после Сорбонны. Но вышла замуж и задержалась на целых семь лет. Штамп в паспорте Мирей и Эмиль ставили долго и мучительно. “Бракосочетание не достаточный повод, чтобы оставаться в СССР”, — объяснили влюбленным.
Помогли родители Мирей. Они входили в верхушку французской компартии и близко дружили с генсеком Жоржем Марше. “Да, мои мама и папа смотрели на Россию сквозь розовые очки, — разводит руками Мирей. — Когда мы с мужем все-таки расписались, то очень нуждались в деньгах. Но вместо того, чтобы прислать нам немного франков, мои родители клали в посылку веточку мимозы и зеленые лимоны из нашего тулонского поместья. Они считали, что больше мне в советском раю ничего и не надо”.
Московские француженки ломали свой изящный европейский менталитет, вываливая на стол содержимое первых советских холодильников и распахивая среди ночи двери для непрошеных гостей, — нельзя иначе, ведь это Россия.
Лишь на одном на своих московских свадьбах они стояли крепко — никаких флердоранжей и подвенечных платьев! Это считалось дурным тоном. Новорожденных наследников московские парижанки воспитывали строго по новомодному доктору Споку. Никакого грудного вскармливания — это порабощает свободную женщину! “Как-то моя жена привязала месячную дочку крепко-накрепко к кровати специальными ремнями, чтобы та не упала на пол, а сами мы ушли в гости, — рассказывает один из бывших мужей. — Я попытался вмешаться, но она приказала не лезть в процесс воспитания: “У вас в России детей слишком пестуют!”
И еще одно невинное чудачество “красного десанта”. При любых обстоятельствах они уезжали рожать только в Париж. “Мужественные русские женщины вспоминали о своих родах как о самом чудовищном опыте в жизни, будто они побывали на войне, — рассуждает Мирей Коган. — Да еще эти советские доктора с их устаревшими рекомендациями пеленать младенцев, словно египетских мумий. Ваши дети с первых дней теряют свободу — от этого, наверное, у русских такая любовь к диктаторам!”
“Невозвращенцем я стал совершенно случайно”, — говорит Эмиль Коган, который, между прочим, работал в “Московском комсомольце”, заведовал литературной страницей, вольнодумствовал — но совсем немного, по моде того времени: “Просто я не хотел геройствовать непонятно во имя чего”.
Весной 1968-го Мирей Коган тоже собралась в Париж за ребенком.
— Я думал сопровождать жену, но в редакции мне подписали совершенно невыездную характеристику, — вспоминает бывший журналист. — Парторг и профорг обвинили меня в нечеткости идеологических позиций. Это означало, что они “умывали руки” — мол, если я предам родину и останусь во Франции после родов, то они ни при чем. Нет, эти люди не были сволочами — просто не хотели брать на себя ответственность. Увы, но мои домашние проблемы совпали с тогдашним разгромом свободолюбивого “МК”. В конце 1967-го, в очередной юбилей революции, опубликовали приказ о недопустимости публикации иных статей и стихов, кроме как во славу советской родины. А тут еще я с беременной женой-иностранкой…
Удивительно, но права Эмиля отстояли коллеги-журналисты. Бороться с крепнущей газетной цензурой было все равно бесполезно, но они дружным коллективом добились послабления в малом — смягчили формулировку в его характеристике.
— Отныне меня обвиняли лишь в нечеткости литературных позиций, — смеется Эмиль Коган. — И ОВИР меня пропустил.
Мог ли Эмиль после таких мучений не вернуться обратно и подвести товарищей?
— Спустя три месяца после родов я уже паковал чемоданы домой. Мирей рыдала. Она не хотела никуда больше уезжать, отказывалась быть декабристкой. Хотя родители выбили ей шикарные условия. Назад в СССР она отправлялась уже как посланница компартии и должна была там переводить 25-й том Ленина.
22 августа 1968 года Эмиль и расстроенная Мирей все же приобрели обратные билеты на московский поезд. “Советские танки в Праге!” — взволнованный тесть вышел им навстречу, когда они возвращались с вокзала. На глазах этого верного ленинца блестели слезы: “Этого не может быть!”
В тот момент рухнули идеалы всей его жизни. Да что там говорить — идеалы целого поколения.
— Я видел, внутренне французы уже были готовы к социалистической революции, — рассказывает Эмиль. — По всему Парижу висели красные флаги, студенты учили русский язык… А тем августовским утром они вдруг разом протрезвели.
Что-то перевернулось и в самом Эмиле. Он сказал жене, что они остаются во Франции.
— Я никогда не был антисоветчиком. Но это Брежнев за меня решил, где мне жить. Первые годы было очень трудно, я не мог официально устроиться на работу и не знал ни слова по-французски, — Эмиль ненадолго замолкает. — Да и сейчас я думаю все еще только по-русски, к сожалению.
Их старший сын Петр вместе с женой и детьми живет в Африке. В крошечной стране Малавии, которая настолько спокойна и тиха, что остальной мир и не подозревает о ее существовании.
— Но моих внуков невестка прилетает рожать всегда в Париж, — гордится Мирей. — Она настоящая француженка!
...В Москву Коганы вернулись спустя 23 года, в августе 91-го. Приехали по турпутевке. Смешавшись с восторженной революционной толпой, пробовали давно забытые бутерброды с колбасой по 2,80. Видели, как залезает рядом с Белым домом на танк Борис Ельцин. Но все равно для них это была уже чужая страна.
— В Париже воздух чище, — убеждают меня Коганы и честно добавляют: — Это не запах свободы, просто здесь хороший бензин.
— Да, в России был ад, зато было не скучно, — уверяет переводчица Мишель Кан. Она прожила у нас десять лет. Приехала в 22 года, а вернулась — в 32, после развода.
Но она ни о чем не жалеет.
— Судьбы мужчин-иностранцев, которые посмели в СССР ухаживать за русскими женщинами, гораздо более трагичны, — рассуждает Мишель. — Я помню историю католического монаха Робера, который увлекся марксизмом и покинул монастырь. Робер переехал в Москву и пленился студенткой из Новосибирска. Он сделал ей ребенка, и это его потрясло, ведь Робер оставался девственником до 27 лет! Он жил здесь тоже больше десяти лет. А когда его с женой и уже тремя детьми выпустили во Францию, они тут же развелись.
Другой француз влюбился в дочку первого секретаря Бурятии. Разрешение на свадьбу он добился через… бельгийскую королеву. “Студент с оказией передал ей письмо, где умолял поговорить с Хрущевым, — вспоминает Мишель Кан. — Королева как раз была проездом в Москве, растрогалась и упросила вашего главу помочь влюбленным. Так что Хрущев выступил в роли святого Валентина”.
Самая печальная судьба была у итальянца Массимо. Он посмел соблазнить дочку генерала КГБ. Отец девушки пришел в ярость и подстроил жениху автокатастрофу. Массимо еле выжил. Никогда больше, даже приезжая в СССР, он не искал встреч с бывшей пассией.
— Мы случайно встретили Массимо через сорок лет в Париже, задавали ему вопросы про его возлюбленную. Но он сказал, что ничего с тех пор о ней даже не слышал, — подтверждает Эмиль Коган. А я пересказываю ему сюжет фильма “Водитель для Веры”. Почти точную копию той истории — в самой грустной ее части.
— Да, лучшие сценарии обычно подкидывает жизнь, — кивает он головой.
Оказывается, есть реальный прототип и у французской героини ленты “Восток—Запад”, что поехала в Москву за любимым, а затем, оставленная им, десятилетиями не могла вернуться на родину.
Эту женщину зовут Анн-Мари Леед. Недавно ей исполнилось 92 года. Ее сегодняшний гражданский муж, француз, моложе ее на десяток лет — ему всего 82. “Но Анн-Мари выглядит гораздо бодрее”, — уверяют ее друзья.
— Это все Россия! Я прошла здесь суровую школу выживания! — восклицает сама пожилая мадам. В начале 1930-х годов Анн-Мари вышла замуж в Париже за русского скульптора-эмигранта. Молодой муж решил вернуться на далекую родину. Она, не задумываясь, последовала за ним. “В этот ваш страшный 37-й год”, — делает большие глаза Мишель Кан, которая дружит с Анн-Мари.
Но отнюдь не сталинские лагеря разлучили молодую семью. Просто в Москве скульптор встретил другую женщину, а Анн-Мари — другого мужчину. Она снова вышла замуж и родила двух дочерей. Во время Великой Отечественной работала на заводе, получала хлебные карточки, как и все остальные.
Анн-Мари долго не выпускали из СССР. Нет, к ней хорошо относились, даже дали советское гражданство. Но вся ее жизнь служила лишь наглядным примером, что не только из Страны Советов могут бежать на Запад люди. Но и в обратном направлении тоже.
— Только в 1946 году ей с девочками за хорошее поведение разрешили съездить погостить во Францию, — рассказывает Мишель Кан. — Муж, естественно, остался в Москве в заложниках. Анн-Мари было его жаль, но она не сдержала обещания и не вернулась.
Мы были их первой любовью. Самой сильной, самой настоящей. Тем печальнее было разочарование.
— Русские сами виноваты, — говорят теперь постаревшие парижанки. — Увы, но ваш народ даже не пытается построить настоящее гражданское общество, как везде в Европе. Мы поняли, что никакой загадки у русской души нет — только природная лень, пьянство и пофигизм.
Ни одна из них и в страшном сне не признается сегодня в своих прежних коммунистических симпатиях. Это очень дурной тон — как флердоранж на свадьбе. “Только не называйте нас красными мадемуазель, это слово нас компрометирует”.
И как им объяснить, что красные по-русски — еще и красивые.
Мне удалось разыскать в Париже всего четыре уцелевшие с тех времен русско-французские пары. Но две из них наотрез отказались от встречи: “Не хотим ворошить прошлое!”
…Так странно услышать правильную московскую речь на окраине Парижа, в местечке Иври, где сохранились римские развалины, а по утрам тянет вареным рисом из вьетнамского ресторанчика. Аньез и Николай Дронниковы живут здесь в старинном фамильном особняке, который помнит еще Наполеона. Но последние 33 года в этом доме говорят только по-русски.
Аньез прожила в СССР 12 лет. Она работала гувернанткой у канадского дипломата. Возвращаясь на родину в 1972 году, вывезла с собой все, что у нее было, — мужа, художника Николая Дронникова. Эта женщина не была ни красной, ни белой. Она просто любила.
Пожилой мужчина сметает на улице сухие ветки в общую кучу. Шерк-шерк — скрипит его метла, совсем как у московских дворников. “Я воссоздал здесь свой кусочек России, — говорит хозяин дома. — Здесь моя личная страна, в которой я всегда хотел бы жить”.
Этажерки с дореволюционными изданиями — от пола до потолка, комната полна ими.
— Я покупал эти книги у эмигрантов первой волны, за иные заплатил по тысяче франков. Только не говорите Аньез! — полушутя восклицает художник.
А в темном подземелье особняка, в его мастерской, на полу лежит посмертная маска Пушкина. И тут же, на стене, барельефное изображение пожилого мсье по фамилии Дантес.
— Я вылепил его лицо с фотографии, которую принесла правнучка Дантеса, — говорит Николай Дронников. — Между прочим, она очень гордится, что ее предок сыграл такую большую роль в истории России...
Слепок с мертвого Пушкина кажется мне почему-то удивительно похожим на лицо его постаревшего убийцы. Как же все это у нас так тесно переплелось! Французское, русское…
А за тысячи верст от Парижа на простом нижегородском кладбище рядом две могилы. Вот уже больше века здесь лежат русский и француженка. Муж и жена.
Они обвенчались в Сибири. В обычной деревенской церкви. Она — под чужим православным именем Прасковья. Он — в кандалах.
“Не обещайте деве юной любови вечной на земле”, — этот романс Окуджава посвятил именно им. Так закончился роман декабриста Ивана Анненкова и другой французской гувернантки Полины Габль.
Полина-Прасковья умерла в старушечьи 76 лет. Пережила трех русских царей. И любимого мужа, который с ними боролся.
Никогда больше она не гуляла по набережной Сены.
Что с того — она и так была совершенно счастлива.