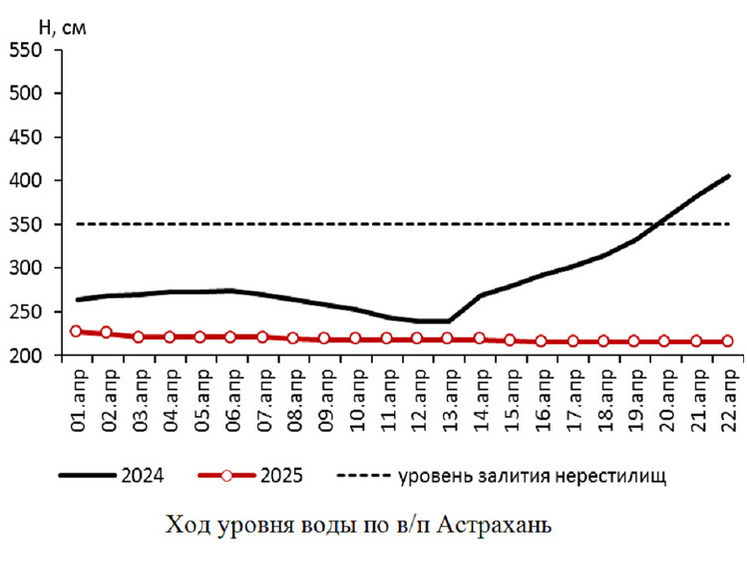Высокий поджарый мужчина с благородной сединой. Никак не скажешь, что ему под 80. Походка легкая. Взгляд ясный. Речь уверенная. А ведь Игорь Сергеевич из той плеяды авторов, чьи имена уже давно вписаны в историю искусства. И не без его участия. Игорь Сергеевич, во-первых, уникальный художник, сочетающий в своих скульптурах и картинах традиции русского авангарда с иронией и концептуальным видением. Воспринимается его искусство удивительно легко: в душу сразу западают объемные геометрические пейзажи, на которых палочки дождя пробивают прямоугольные облака; характерные человечки, собранные тоже из прямых линий; макеты зданий наделяет индивидуальными чертами — только у него дома-женщины, небоскребы-подростки или даже звери. Во-вторых, Шелковский — гениальный издатель журнала «А-Я», на страницах которого впервые были опубликованы работы ныне самых топовых художников — Эрика Булатова, Комара и Меламида, Константина Звездочетова и Ильи Кабакова. Журнал не выходит больше четверти века, но слава легендарного издателя до сих пор преследует Шелковского, оттягивая внимание публики от его творчества. Однако не так давно Шелковский переломил ситуацию, организовав ряд этапных проектов на родине.

«Я бежал от коммунизма»
— Вы уехали из СССР в 1976-м. Почему сейчас вернулись на родину?
— Говоря коротко: я бежал от коммунизма. Как только он кончился, я стал регулярно бывать в России. С начала 2000-х все больше времени провожу в Москве. Я критически отношусь ко многим, проходящим здесь политическим процессам, но здесь мне интереснее. Я никогда не рвал с Россией, а в Москве я вырос.
— Перенесемся в Оренбург, где вы родились, через два месяца после расстрела отца. Известна ли причина, по которой уничтожили всю оренбургскую элиту?
— Сталинские чистки. Они шли по всем крупным городам. Цель — нагнать страх, запугать всю страну, избавиться от людей, самостоятельно мыслящих, честных, принципиальных, оставить серую, безликую и послушную массу. Приказ о расстреле большой группы работников, среди которых был и мой отец, можно найти в Интернете. На выцветшей папке — подписи Сталина, Молотова и Жданова. Мой отец был искренним и честным коммунистом. Ему был 31 год, и он был главным редактором газеты «Оренбургская коммуна». Обвинение всех т.н. врагов народа были ложными и стандартными: японский, польский шпион, связь с троцкистами...
— Первые месяцы своей жизни вы провели в одиночной камере вместе с матерью...
— Ее арестовали вслед за отцом. Как члена семьи врага народа. Если приговор отца звучал — десять лет без права переписки (т.е. расстрел), то мать получила восемь лет лагерей. Первые месяцы моей жизни мы с ней сидели в одиночной камере. Приехала какая-то комиссия и нашла, даже по тем временам, нарушение правил: кормящая мать не должна сидеть в одиночке. Резолюция — улучшить условия содержания — выразилась в том, что матери стали выдавать четверть свеклы и чайник кипятку для гигиенических нужд. Через несколько месяцев ее перевели в лагерь, а меня определили в лагерные ясли. Дети там, по выражению Гоголя, «выздоравливали как мухи». И моя бабушка приложила все силы, чтобы забрать меня. И потом мы с ней жили в Москве, в комнатке в коммуналке на Старой площади.
— В той же коммуналке жила Белла Ахмадулина. Вы дружили?
— Первые годы войны мы с бабушкой были почти единственными жильцами дома. Другие семьи уехали в эвакуацию: не было отопления, электричества, воды. Воду носили ведрами на пятый этаж. Зато работала радиотрансляция, и я до сих пор помню голос Левитана: «После кровопролитных боев...» Где-то после 1943-го люди стали возвращаться, и в нашей длинной коридорной коммуналке стали появляться дети. Приехала семья и Беллы Ахмадуллиной. Иногда ее мать — яркая блондинка, работавшая переводчицей в «Интуристе», устраивала для детей «кино», т.е. просмотр диафильмов. Отец Беллы — полковник, в доме появлялся крайне редко. Иногда я шучу, что в детстве мы с Беллой сидели на одном горшке, в буквальном смысле... А к концу школьного периода у Беллы появился поклонник. И, возвращаясь вечером домой, я старался не смотреть, как они целуются на подоконнике лестничной клетки. Ухажера звали Женя Евтушенко, и тот период отразился в его стихах: «В красивом городе есть площадь Ногина». Потом мы поступили в разные институты: она — в Литературный, я — в Училище 1905 года. Случайно встречались на Тверском бульваре. Последний раз мы с ней виделись в Париже в 1990-е годы, в галерее Клода Бернара на вернисаже Эдика Штейнберга.
— А когда вы почувствовали, что искусство — ваше призвание?
— Когда мне было шесть лет. Мама после возвращения из лагеря не могла жить в Москве, поселилась в Малоярославце. Тайком (соседи могли донести) иногда приезжала в Москву и в один из таких приездов сводила меня в Третьяковку. Потом я сам освоил этот маршрут и ходил уже сам, один или с приятелем.
— После училища вы занялись реставрацией — храмов, фресок, икон. Почему?
— На самом деле я работал на многих работах, связанных со словом «художник», — надо было деньги зарабатывать. Художник-график, художник-оформитель, педагог. Работал как театральный художник и поставил в Тульском ТЮЗе три спектакля. Четыре года работал художником-реставратором. Реставраторов древнерусской живописи тогда было мало, и наша бригада летом работала в Новгороде (София Новгородская, Спасо-Преображенский собор с Феофаном Греком, Спас-Нередица), а зимой — в Московском Кремле. Как художнику мне это дало очень много. С большинством же тех, кого сейчас называют авангардистами, я познакомился значительно позже.

«Считаю себя реалистом»
— А во Франции художнику проще, чем издателю?
— Пожалуй. Когда я приехал в Париж, я был зачислен в Союз художников (Maison des Artistes). У меня не было ни каталогов, ни фотографий, чтобы доказать, что я художник, но мне верили на слово. Записался в очередь на мастерскую. Знакомые французы были настроены скептически, мол, придется ждать года два, а я получил через восемь месяцев — список для скульпторов был короче, чем для живописцев. Мастерская в предместьях Парижа, в старом монастыре, переделанном в культурный центр. Во время выпуска журнала почти не было времени для собственной работы, зато после мне удалось наладить связь с галереями и регулярно выставляться: наряду с парижскими галереями я выставлялся в Дюссельдорфе и Кельне.
— Как вы охарактеризовали бы свое искусство?
— Для меня словесные обозначения не имеют значения. Обычно они приходят со стороны. Сам я считаю себя реалистом, потому что любая моя работа, даже самая абстрактная, имеет точкой отправления какую-то реальность.
— Вы работаете в первую очередь с деревом и металлом, почему именно с этими материалами?
— Дерево для меня было материалом более доступным, недорогим. Сейчас я стараюсь переводить скульптуры в металл, заботясь об их большей прочности.
— В конце прошлого года состоялась ваша ретроспектива в Мультимедиа Арт Музее, а следом камерная выставка в галерее «Файн-Арт». Что дальше?
Свою последнюю выставку в галерее «Файн Арт» я сделал с целью привлечь внимание к книге профессора Евгения Абрамяна «Судьба цивилизации. Что нас ждет в ХХI веке». Крупный физик, он выступает как социолог, философ, психолог, футуролог и пацифист. И я сделал для книги несколько рисунков. Издание не состоялось, но я вспомнил о рисунках и сделал по ним серию рельефов. Меня иногда спрашивают: должен ли художник быть политизированным. Ростропович был аполитичен как музыкант и политически активен как гражданин.

«Мы с самого начала переиграли КГБ»
— И все-таки журнал «А-Я», который вы семь лет (с 1979 по 1986 год) выпускали в Париже, сыграл огромную роль в новейшей истории искусства. Существует версия, что журнал подпольного искусства был проектом КГБ. Так это правда или миф?
— Я сам эту версию выдумал. Но если и так, то мы КГБ переиграли с самого начала. Отсюда и лютая ненависть органов к журналу, преследование художников, вызовы на допросы и угрозы. Для каких целей этот журнал мог быть интересен органам? Кажется, чисто художественный журнал мог бы стать потемкинской деревней для Запада: вот, мол, у нас все свободно. И за художниками, сгруппировавшимися вокруг журнала, легче было бы следить (мы, увы, им это предоставили). И чистый, вне политики журнал должен был отвлечь художников от предельно политизированного журнала «Третья волна» Глезера — он сжигал чучело Брежнева перед советским посольством. Труднее всего было со вторым номером: деньги на него дала парижская галеристка русского происхождения Дина Верни, оплатила третий и пятый номера из семи вышедших. Остальные издавались на деньги, полученные от продаж работ художников, печатавшихся в журнале. В основном их покупал американский коллекционер Нортон Додж. Сейчас его собрание русского искусства — самое крупное на Американском континенте.
— Работы каких ныне известных художников были впервые опубликованы в «А-Я»?
— Практически всех: Эрика Булатова, Олега Васильева, Ивана Чуйкова, Игоря Макаревича, Комара и Меломида, Дмитрия Пригова, Константина Звездочетова, Франциско Инфантэ, Ильи Кабакова... Самое примечательное, что номера «А-Я» ни в чем не устарели. Картину «Жук» Ильи Кабакова не так давно продали на аукционе за $5,8 миллиона. А впервые она была опубликована в журнале «А-Я»…
— Как удавалось переправлять материалы из Москвы?
— Официальной почтой мы — по известным причинам — не пользовались. Помогала молодежь — слависты, стажировавшиеся в Москве. Девушки везли слайды, прятали записки в своей одежде. Если найдут — лишат визы, поломают карьеру. Иногда нервы не выдерживали и письма рвали перед самой границей и спускали в унитаз.
— Почему перестали издавать журнал — финансы или отпала необходимость?
— И то, и то: денег не хватало всегда — и накопилась общая усталость. Художники вдруг рассорились — с одной стороны, КГБ настолько нажал на художников, что те стали слать мне письма, чтобы их не печатали в журнале. С другой стороны, времена стали меняться — художники могли выезжать и выставляться на Западе, печататься в западных журналах, издавать каталоги. Острой необходимости в продолжении журнала не было. И я с радостью перевел дыхание и занялся своими делами.
— Но почему не опубликовали ни одной собственной работы? Из скромности?
Публиковать себя — все равно что положить общественные деньги в собственный карман.
«Нас ждет много опасностей, которых можно избежать»
— Свое неравнодушие к политике вы проявили, например, когда в 2010-м подписали письмо оппозиционеров…
— И это не единственное письмо, которое я подписал. Тогда я жил в Париже, у меня была возможность писать статьи в газету «Русская мысль». Я как мог боролся тогда против войны в Чечне. Входил в комитет защиты Чечни. В какой стране мы живем, зависит от каждого из нас.
— Сегодня всех волнует ситуация на Украине. Что вы думаете о ней?
— Я ходил на манифестацию против войны с Украиной. Одна-две тысячи зябнущих людей на широком тротуаре. Почти столько же полицейских. Через дорогу — Министерство обороны. Цель омоновцев — всех разогнать. Сразу же начинается ложь: мешаете проходу граждан. Нет, не мешаем, прохожих здесь почти нет. Другая прицепка: вы стоите на газоне. Но газона здесь тоже нет. Люди моего возраста, заставшие сталинскую эпоху, помнят, какая тогда шла «борьба за мир» — лицемерная, не мешавшая Сталину вести войну в Корее. А мы, пионеры, в красных галстуках и белых рубашках, на массовых митингах и слетах пели «Гимн демократической молодежи». Но прошло пятьдесят с лишним лет, и все разительно переменилось! Вот пожилая женщина изо всех своих слабых сил кричит: «Нет войне!» К ней пробираются двое омоновцев, берут под руки и провожают в автозак. «Хотят ли русские войны?» — написал когда-то Евтушенко. Один из журналистов считает, что и тогда, и сейчас эти строки верны на 100%. Пока он писал эти строки, руководство страны оглядывалось: куда бы ввести «ограниченный контингент» — армии надо размяться, новое оружие надо испытать. Место нашлось: Афганистан. По случаю юбилея вывода войск собирали средства для бывших воинов-афганцев. А почему не в пользу их жертв? Война в Чечне — сто тысяч убитых. Русские не хотят войны — а их начальство? Вспомним Окуджаву: «А если что не так — не наше дело, как говорится, Родина велела».
— И что же, по-вашему, нас ждет в ХХI веке?
— Нас ждет много опасностей, которых можно избежать, если на первое место поставить человеческий разум и руководствоваться им. Главная опасность — война. Но война — это прежде всего состояние умов. Никакая вражда не длится долго, если она лишь с одной стороны, говорил еще Лао Дзы. Идем ли мы на конфронтацию, создаем ли себе образ врага (а сколькие заняты сейчас именно этим) — зависит от нас. Почему Америка до 1917 года не была нашим врагом, а потом вдруг стала? Мы на разных континентах, каждый вполне самодостаточен по своим богатствам, причиной вражды была идеология: коммунизм победит во всем мире. Вспомните Хрущева, который, приехав в Америку, первое что сказал: мы вас закопаем. И сколько голов и теперь еще нафаршировано старой и чудовищной по глупости идеей, что Америка — наш враг. Не враг, не друг, просто мы соседи по земному шару.