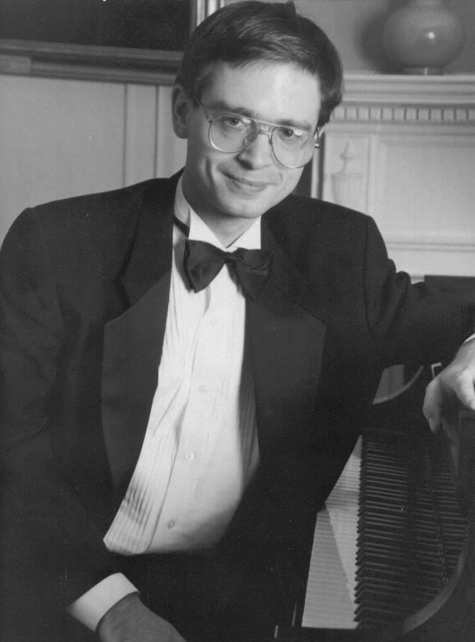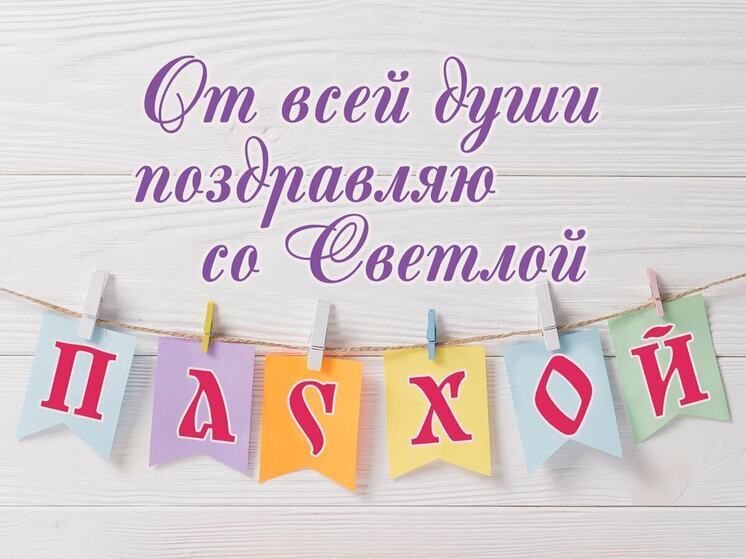— Максим, развейте миф: у нас часто говорят, что репертуар пианиста сужается, как шагреневая кожа, — менеджеры, публика вынуждают играть сладкую «классику»...
— Даже когда у меня был менеджер, я все равно сам себе выбирал репертуар. Другое дело — наличие концертов в принципе. Вот это проблема. Свои концерты приходится организовывать самому. Такая уж у меня судьба. Вот, например, сейчас выучил всю фортепианную музыку американского композитора Сэмюэла Барбера. И сказал об этом одному влиятельному человеку: хочу выступать. Ну и что? Он сразу ответил: а ты не подумал, кому вообще это надо? Скажу честно, никогда об этом не думал... главное — достойно сыграть.
— Простите, но нужно же как-то деньги зарабатывать — есть правила игры...
— А я не люблю, чтобы мне кто-то указывал. Играю от себя. Но никого не критикую: говорят, Рихтер никогда не ориентировался на «зрительский вкус», а Горовиц очень даже это учитывал...
— А куда делись ваши агенты?
— Куда делись? Взяли и ушли. У меня было всего два агента, причем начинающих, которые организовали всего четыре концерта, так что... с агентами не везет. Пытаюсь найти, но это сложно.
— А в принципе в Америке пробиться трудно? Кто-то сказал, что здесь во всем надо быть звездой и этот статус удерживать...
— Ну да, говорят, в Европе легче. В той же Германии. А здесь... на карьеру влияют конкурсы; выиграешь — нет проблем. Или ты — сильная личность с мощным характером, причем попал в нужное время в нужное место, — у всех же по-разному складывается. У меня абсурдная ситуация: чувствую подъем сил, могу играть очень хорошо, а концертов вообще нет. Вот Кисин — звезда, гениальный пианист, без конкурсов, кстати, пробился. Мацуев стал хорошо известен после победы на конкурсе им. Чайковского, но в его случае, думаю, он тоже пробился бы без конкурсов, силой характера и силой таланта. Я не кручусь на такой высоте.
— Но классных пианистов в Штатах много?
— Конкуренция всегда высокая. Но обычно кто хорошо играет — тому везет, мне же — напротив. Помню, в
— Америка — музыкальная страна?
— Неоднородно. Хотя я выступал даже в маленьких городках — и люди приходили. А вот на нью-йоркский концерт в Карнеги-Холл (Большой зал) пришлось с трудом собирать публику...
— Вот как? В хваленый Карнеги-Холл?
— А что — Карнеги-Холл? Меня никто не знает же... С одной стороны, это хорошо: людям должно быть даже интересно — а кто это вообще? Но далеко не всегда так. Я не знаю стандартов — как надо. Рад бы вам сказать, что на меня ломился зал, — но это не так. В Нью-Джерси играл — тоже с трудом народ собирали.
— А что значит «собирали»? Афиши, что ли, клеили?
— Вешается афиша, рассылаются мэйлы, обзванивается много людей. Вот там меня как раз предупреждали: зачем играть Барбера, когда публика желает Бетховена? В глубинке надо играть более обкатанный репертуар, без изысков: обязательно Шопена, и побольше, или Бетховена.
— Насколько публика интеллигентна? Известно, что американская публика считает нормой хлопать между частей произведения...
— Ну, это как попадешь. Когда я играл в Нью-Джерси, в программках было специально написано: «В этом месте аплодировать не рекомендуется».
— У нас еще до этого не дошло.
— В Карнеги-Холле всегда хлопают между частями, даже большим музыкантам. На моем концерте много русских было, не музыкантов, — их пригласили, чтобы заполнить зал, — вот они и хлопали, слыша любой конец...
— Но вернемся к Джульярду: когда вы учились, общий уровень был высок?
— Джульярд — целая Вселенная, оказавшись там, ты можешь забыть про весь мир, будучи полностью погружен в музыку. Не знать, что происходит, не смотреть телевизор... атмосфера буквально поглощает тебя, способствуя мгновенному росту. Причем рядом — и Нью-Йоркская филармония, и Метрополитен-опера, Нью-Йоркский балет, театры. Все условия — «Стейнвеи» в каждом классе. Так что ребята были сильные; стоило прийти сюда — происходило какое-то чудо: через два месяца способности неимоверно вырастали.
— Вы много платили за учебу?
— Cидел на полной стипендии, ее ни у кого не было. Платить бы и не смог. Мы ведь только приехали в Штаты, мама лишь пособие имела. Я не получал денег, но и не платил: всё бесплатно — и учеба, и жилье (общежитие рядом со школой), и еда. Не расти творчески — невозможно. Даже приезжал потом в Москву, на конкурс Чайковского, меня спрашивали: «А были у вас ленивые музыканты в Джульярде? А то попадаются такие в нашей консерватории» Там не было ленивых никогда: там нет смысла быть ленивым. Занимался по
— Ощущаете ли вы в профессии некий комплекс — что изначально не американец?
— Сложный вопрос. В Джульярде была немножко тенденция — скептически смотреть на русских, с неприязнью. Но если ты талантлив и хорошо занимаешься, никто тебя не будет ущемлять. Кроме Джульярда еще учился в Манхэттенской школе музыки у Нины Светлановой — так там, наоборот, сильна русская традиция.
— Вернемся к современной музыке: многие говорят — на кой дьявол учить опус того же Хиндемита, если учить его надо целый месяц, и у публики он не вызовет ровно никакой эмоции?
— Обычно то, что мне нравится, — и публике нравится. Но это не всегда мелодичные вещи. Например, меня заинтересовал опус Штокхаузена — Клавирштюк № 8, но до конца я его так и не выучил: это очень сложно. Это как раз в Манхэттенской школе неожиданно ощутил наплыв современной, не играной музыки: педагог совал именно ее. В 99 концертах школы из 100 включали обязательно новый опус — первое исполнение в Нью-Йорке или в Штатах... И педагог кричал: «Какой еще Чайковский?! Его сейчас никто не играет! Читай „Нью-Йорк таймс“, что там пишут о премьерах, — люди ходят только на новое, кому нужны все эти прошлые стандарты?» Для меня это шоком было. Поэтому мне непонятно и странно, что американцы не интересуются своим Сэмюэлом Барбером, — большая проблема включить его в репертуар. Людям все равно — говорят, повторяю: «Это не нам, это тебе надо». Хотя сейчас его записываю: выиграл некоторые деньги, послав заявку в Общество любителей музыки, и теперь мне позволено записать ранние произведения Барбера. Это будет открытие для всех!
— До сих пор посещаете конкурсы?
— Ой, нет, эта история для меня закончена — мне 36 лет. Из-за склада характера и нервных усилий не получается дальнейшее участие... Я — за конкурсы, как Михаил Плетнев говорит, они мобилизуют, но у меня были неудачные выступления, и я все это прекратил. Хотя что плохого: дважды выступал в Москве на «Чайковском» — пусть не оказывался в третьем туре, зато в таком потрясающем зале играл!
— Вы представляли Америку?
— Мне это еще Оксана Яблонская сказала: «Играй всегда только за Америку». И сам так хотел. В этом есть доля патриотизма, наверное, для меня. Ведь и дедушка у меня американец... Смотрите: у меня есть бабушка — вместе живем, ей 91 год. Так вот, ее отец был актером еврейского театра в Киеве, сам родом из Витебска и учился живописи у учителя Шагала Иегуды Пена... — вот так. Вообще, по бабушкиной линии — все художники. Например, брат ее... Погиб на фронте в 1942 году. У нас так: одни художники, другие — лингвисты. Мама, правда, стала фигуристкой по парному катанию. Я же — единственный пианист в семье. Мама этого очень хотела. Поэтому всю свою жизнь посвятила мне — лишь бы играл...
— А папа где?
— Папа раньше работал в МИДе, долго жил в Чехословакии. Теперь занимается экономикой... живет в Москве. Родители разведены, живут отдельно.
— Не было у вас желания пробиваться в Европе?
— Моя семейная обстановка не позволяет далеко уезжать: надо помогать и маме, и бабушке.
— То есть материальная стесненность?
— Ну, не то чтобы... просто если бы мне предложили — я бы подумал. А так никто и не предлагает. Божья сила такая, судьба...
— А где конкретно на Манхэттене живете?
— На севере, около моста Вашингтона. В обычной квартире. Здесь, в доме, много фантастических русских музыкантов — та же Екатерина Меркульева, замечательный композитор из Санкт-Петербурга. Или Елена Татулян — пианистка, ученица Генриха Нейгауза. Преподает у себя дома. Еще Николай Качанов, директор Русского камерного хора в Нью-Йорке. Здесь жил до 2007 года знаменитый музыковед Владимир Ильич Зак, друживший с Хренниковым, с Ростроповичем... Осталась его вдова Майя — у нее тоже проблемы: никак не может применить здесь свой дар педагога...
— Но в нищете никто не существует?
— Только на пособие — никто. Но, скажем так, ниже среднего класса. Трудностей много. Что делать... Вон семья Заков, когда ехала в Америку, думала, что будут «учить американцев, как играть, как анализировать произведение, как понимать музыку, как сочинять» — и что? Совсем не востребованы. В Америке свои гении.
— Но, может, сменить профессию?
— Нет, не хочу этого.
— Днем работать таксистом...
— Вот пример моего друга, Алика Зака — сына того самого Владимира Ильича Зака. Они приехали в 1992 году, Алик готов был поступить к Оксане Яблонской в Джульярд, но потом вдруг резко изменил всё и стал специалистом по компьютерам. Так здесь со многими происходит. Парень вон на скрипке играл — тоже бросил. Нет, я не буду ничего бросать. В конце концов, есть возможность преподавать, не очень хочется, но если придется — что делать? Людям и хуже бывает.
— А насколько вы вообще жаждете материальных ценностей — что надо: квартиру, машину, семью? Какие задачи ставятся?
— Я живу с мамой и бабушкой. Мама мне помогает. А я — ей. Если бы я захотел самостоятельно поселиться и выступать при этом — просто бы не смог этого сделать. Мне повезло, что мама помогала мне всю жизнь. Квартиру мы арендуем с 1992 года (купить здесь свою собственность — безумно дорого), у нас две комнаты. Самый тяжелый период был — когда только приехали: едва хватало на еду, жутко экономили, ни цента лишнего не тратили. Эмиграция — тяжелейшая вещь. Немногим дано пережить ее психологически. Как мой друг говорит, «эмиграция — это открытая тюрьма».
— А если бы вы не в 15 лет, а в 25 уезжали, — может, и не уехали бы вовсе?
— Ой, не знаю, как было бы. Мама меня увезла — и всё. Бабушка и мамины сестры давно жили в Америке... Но тяжело было, даже при том, что я знал английский в совершенстве. Помню, звонить в Москву не могли: для нас это дорого было. Только через русскую общину — звонок раз в месяц на несколько секунд. Изоляция, опять же... Но Джульярд меня спас.
— Хорошо, что не сломались...
— Благодаря маминой энергии. Она меня вытащила. Слишком хотела, чтобы я играл. У меня был нервный срыв, но она своим божьим духом подняла. Вообще я теннисом раньше увлекался, и если бы не мама — стал бы теннисистом. Она герой. В 2003 году в Нью-Йорке ее сбила машина. Сотрясение мозга, сломаны тазобедренные кости, ноги... Два месяца лежала в разных госпиталях. Мы хотя и не верующие вовсе, но когда такое с мамой случилось, я стал молиться как ненормальный. И... через 13 дней она открыла глаза после комы. Такое чудо! Выжила, благодаря молитве и своей силе — спортивные качества фигуристки ее вытянули. Мы сейчас в теннис с нею играем! Человек-герой. Я не такой, увы...
Нью-Йорк.