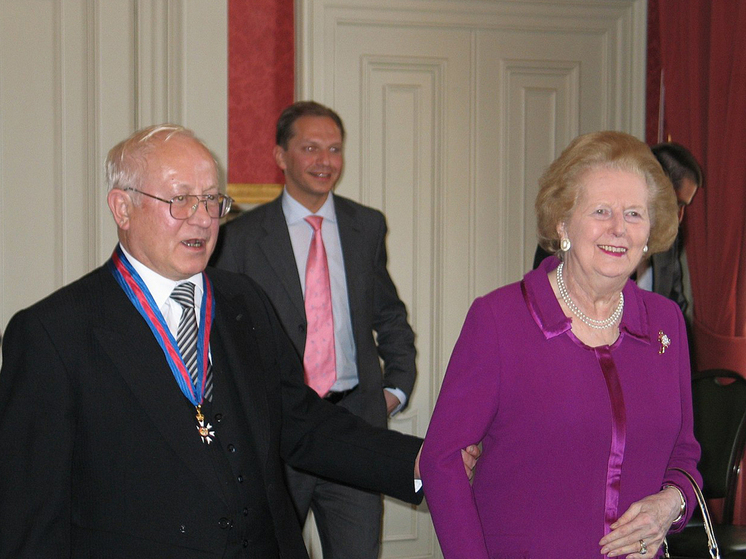В семидесятые годы в "Известиях" да и по всей Москве бытовала загадка: длинный, красный, грязный и всегда стоит. Что это? Ответ: красный спортивный "Додж" спецкора Мэлора Стуруа. Тогда иномарок в Москве у простых смертных не было, а Стуруа привез свой "Додж" из-за границы, но на гараж денег не осталось, и машина стояла возле редакции.
Эту машину увидел Брежнев, в гараже которого, как известно, стояли лучшие машины мира. Он прислал к Стуруа эмиссара с предложением обменять великолепный красный "Додж" на любую машину из его коллекции. Стуруа поехал, посмотрел, но выбрать ничего не смог: все машины были представительского класса, а Мэлор Стуруа был молодой и веселый, и ему нужен был другой автомобиль.
На переговорах о ядерном разоружении во Владивостоке Брежнев отомстил Стуруа. Стуруа обратился к президенту Форду с просьбой подписать фотографию, а Брежнев сказал: не подписывайте, он не захотел меняться со мной машинами...
Мэлор Георгиевич Стуруа — легенда отечественной журналистики. Он проработал в "Известиях" пятьдесят лет, но самым старым известинцем я назвать его не могу. Как я могу назвать старым самого элегантного из всех известных мне людей? Всю жизнь люди считали, что его зовут не Мэлор (Маркс, Энгельс, Ленин и Октябрьская революция), а Милорд, так он изящен. И переспрашивали: а как вас зовут на самом деле?
— Я родился в Тбилиси в 1928 году. Семья моего отца враждовала с семьей моей матери, как Монтекки и Капулетти. Со стороны матери все родственники были дворянами, а со стороны отца — представителями революционеров. Когда Тбилиси освобождала так называемая 18-я армия во главе с Орджоникидзе, с одной стороны воевали братья моего отца, а с другой — меньшевики и белые офицеры, братья матери. Эти крайности определили всю мою жизнь. Кстати, родственники отца и матери примирились, только когда родился я.
— Ваш отец дружил со Сталиным?
— Мой отец был старый большевик, один из основателей социал-демократического движения, провел в тюрьмах и на сибирской каторге 10 лет. У Сталина не было друзей. Но моего отца почему-то долго не трогали, волна настигла его лишь в 1947 году — его обвинили в тоске по троцкизму: он написал мемуары, в которых были выведены все действующие лица того времени.
А к середине 30-х годов люди из отечественной истории просто вычеркивались, остались только Сталин и Молотов. Но отец этого, по-видимому, не осознавал и имел неосторожность отдать свою рукопись Василию Эгнаташвили. Отец в то время был председателем Президиума Верховного Совета Грузии, а Эгнаташвили был не только секретарем Президиума Верховного Совета Союза, но и считался братом Сталина, потому что отец Василия был известным торговцем, а мать Сталина была в его доме прачкой. И ходили слухи, что Сталин — сын того торговца.
Ну и вот, Эгнаташвили немедленно сообщил куда следует, и дело отца вынесли на Политбюро с предложением репрессировать. И вдруг Сталин во время этого заседания Политбюро сказал: зачем репрессировать? Освободить от всех должностей. Старик выжил из ума. И отца не тронули. Он приехал в Москву искать правды, но его не приняли ни Берия, ни Маленков, ни тем более Сталин — принял его Микоян. Который был обязан отцу жизнью.
— Буквально?
— Буквально. Накануне расстрела двадцати шести бакинских комиссаров мой отец организовал побег, когда они вместе с Микояном бежали из тюрьмы. Микоян рассказал отцу, что сказал Сталин. На что отец удивился: "Анастас, как же так, ведь я на четыре года моложе Сталина!" Отца во всех должностях восстановили только после смерти Сталина.
— Вы закончили МГИМО, но карьера дипломата и политика была для вас заказана, поскольку вы были "членом семьи", поэтому вы стали журналистом. Как журналист одной из лучших советских газет вы часто встречались с сильными мира сего. Что в людях интересовало вас больше всего?
— Две вещи: мое собственное поведение в отношении этих людей и на самом ли деле они сильные мира сего. Или им просто повезло. Меня интересовало, буду ли я в разговорах с ними сгибаться. Внутренне. И я вам скажу, что несмотря на то, что мне довелось встретиться со всеми президентами США, начиная с Эйзенхауэра, с великими учеными, актерами и актрисами, мне кажется, что "согнулся" я в жизни дважды. Но не перед сильными, а перед великими людьми. В первый раз — перед знаменитым Хокинсом, гениальным физиком ХХ века. Мы встретились во время празднования столетия со дня рождения Эйнштейна. Я обедал с ним за одним столом, а он был полностью парализован. И второй раз — когда я встречался с великим армянским поэтом Аветиком Исаакяном.
— Неужели вам не довелось испытать страх? Даже в годы правления Сталина?
— Конечно, доводилось. Причем иногда он приходил довольно запоздало. Классический пример — с Берией. Пока Берию не разоблачили, мы о нем знали довольно мало, даже я, несмотря на то, что дружил с его сыном и наши семьи отдыхали вместе на правительственных дачах. Конечно, все мы знали про разящий меч революции, но когда объявили, чем он занимался, — я испугался. И вот почему.
У него на даче мы играли в волейбол: с одной стороны играли Берия и его охранники, с другой — молодежь. И я запулил Берии в очки. Вообще он носил пенсне, но играл, конечно, в очках. Мне стало неловко: я молодой парень, 17 лет, а он... Я извинился, на что он ответил: ну-ну, это же игра.
Через десять лет, когда читали правительственное сообщение о его аресте, я вспомнил эту игру, и мне показалось, будто, когда я попал в очки, охранники схватились за пистолеты. Этого, конечно, не было, но именно это пришло мне на ум, потому что страх был у нас внутри, в костях, даже когда мы его не замечали. Он был постоянным фоном нашей жизни. Как радиация, которая проедает все, но остается незаметной.
А страха перед Хрущевым, Брежневым у меня не было, потому что ставки были иные: там ставкой была жизнь, а здесь — карьера. Американцы, которые не знают нашей действительности, часто спрашивают: почему вы не рискнули написать правду? Они не понимают, что никто не напечатал бы — но и это еще не все...
— Если я правильно понимаю, вы начали работать в "Известиях", когда был в самом расцвете сил Вышинский?
— Да, в то время он был заместителем министра иностранных дел. Он был нашим представителем в ООН и произносил гигантские речи. "Известия" обязаны были печатать его страницами. Но говорил он столько, что накопился долг. И было решено эти, скажем, десять пропущенных полос свести в одну. И поскольку никто не решался это сделать, на это дело бросили меня, молодого паренька, начинающего журналиста. Я даже не понимал, что на самом деле делаю. Сверстали полосу, и я должен ехать к Вышинскому, чтобы он ее завизировал. Под утро, около 5 часов, приезжаю.
— Почему под утро?
— Сталин был еще жив, а при нем все сидели в редакции часов до семи утра, пока он не уйдет спать. И представляете, я еду с сокращениями к Вышинскому, который сам всех "сокращал". Приезжаю в МИД. Все как положено: чай, "Мишка косолапый". И он мне говорит: молодой человек, в тексте связки есть? Я говорю — да, конечно. А вы читать не будете? Ну зачем, говорит, вы же сказали, все есть, — и подписывает. Главный мне говорит: вы знаете, что вы головой отвечаете? Я смотрел на этого гиганта — наш главный редактор был богатырского сложения — и видел, как этот человек превратился в тряпку. Вот как было.
— И неужели не было опечаток? Или все проверяли по сто раз...
— Ну как без опечаток. Я помню знаете что? В словах "мудрый вождь" пропала буква "р". И обнаружили это не наши корректоры, а когда уже читали в ЦК. Быстро позвонили, весь тираж, разумеется, под нож, что было в киосках, все изъяли, и всех, начиная от заместителя главного редактора, всех, кто дежурил, по цепочке — выгнали с работы. Теперь даже представить невозможно, какая у нас тогда была работа...
— Мэлор Георгиевич, кто же из президентов США произвел на вас самое сильное впечатление как личность?
— Джимми Картер. Это был очень хороший, добрый и чистый человек. Единственный из американских президентов и политических деятелей, кто может претендовать на роль святого. Он всем говорил правду в глаза и не побоялся сказать американской нации, что она поражена болезнью. И этого ему не простили. Он имел в виду духовный упадок. Однажды его спросили: вы когда-нибудь изменяли жене? Он ответил: один раз в мыслях.
Картер был новообращенный христианин. Как-то он поведал, что вышел с сестрой в поле, упал на колени и стал молиться, и ему явился Иисус Христос. Вы представляете, президент говорит такие вещи? Ни один не посмел бы. И сейчас он все более и более вырастает в глазах американцев. Сейчас все кандидаты в президенты США говорят: мы, как Картер, будем говорить правду.
— Говорят, что королева Великобритании Елизавета Вторая редко удостаивает журналистов беседы. Удалось ли вам решить эту трудную задачу?
— Удалось, но это оказалось непросто. То есть я мог присутствовать на разных церемониях, но подойти и поговорить не удавалось. И вот, уж не помню в каком году, Советский Союз устанавливает дипломатические отношения с Мальтой. Я вместе с послом полетел туда, в это время в Ла Валетту приехала и королева. Официальный прием. Я твердо решил: своего счастья не упущу.
Все к королеве подходят, кланяются. Подходит моя очередь. Но о чем поговорить? И вдруг я вспоминаю, что в этом году ее сын — принц Чарльз — поступает в Кембриджский университет. А у меня сын поступает в МГИМО. И я говорю: разрешите обратиться к вам не как к королеве, а просто как к матери. А сзади стоит огромная очередь. И главное — протокольщики, которые смотрят на меня, знаете...
Если бы взгляд убивал, я бы давно был мертв. Я — дальше за свое: понимаю, как вы волнуетесь. И она отвечает: вы знаете, да. Многие ведь думают, что раз наследный принц, значит, все будет хорошо. А Кембридж такое учебное заведение — ему могут выставить отметки, с которыми он не поступит. Я действительно немного волнуюсь.
Через некоторое время, в разгар приема, будучи человеком ненасытным, я подхожу к герцогу Эдинбургскому и начинаю разговор. А он человек более раскованный. И вдруг он мне говорит: здесь мне скучно, давай сейчас поедем на яхту "Британия". А в газетах писали, что у него какие-то шашни с одной официанткой из обслуживающего персонала яхты. И я представил себе, как на следующий день в газетах выходит: принц Эдинбургский и корреспондент "Известий" гуляют на яхте, в то время как королева... И я не поехал, о чем сейчас жалею.
— Как вы считаете, что имеет большую силу: власть или богатство?
— Я убедился в том, что люди больше преклоняются перед богатыми. Почему-то всем кажется, что людей, которые имеют настоящую власть, назначили. И я бы тоже так мог. А вот богач — он действительно хозяин жизни, потому что миллиардер. Кстати, сейчас это особенно заметно у нас. Ведь у нас теперь во всем виноват Березовский, вы обратили внимание?..
Мне довелось встретиться с Нельсоном Рокфеллером — он был председателем "Чейз Манхэттен Бэнк" и считался олицетворением американского истеблишмента. Как все перед ним стелились, включая политических деятелей! В те времена проводились так называемые Дартмутские встречи общественности США и СССР. С американской стороны их возглавлял Рокфеллер, а я участвовал в экономической секции. И вот мы готовим заключительный документ. А человек, который с американской стороны отвечал за "бумажную" часть вопроса, принял все это близко к сердцу и начал драться буквально за каждое слово. Работать было невозможно. И тогда я обратился к Рокфеллеру: уймите этого господина. Рокфеллер ничего не сделал — он просто посмотрел. И все.
Еще одна Дартмутская встреча проходила в Тбилиси. И мы с Рокфеллером пошли в национальный музей Грузии. И первое, что мне говорит директор музея: вы объясните господину Рокфеллеру, что это музей и у нас ничего не продается. То есть он боялся, что Рокфеллер может просто взять и купить его музей!
Еще маленькая сценка, которая будет называться: "Тщеславие Дэвида Рокфеллера". Дэвида Рокфеллера поместили в люксе новой роскошной гостиницы Тбилиси. Приезжает Эдвард Кеннеди. Его поселили в каком-то загородном коттедже. Рокфеллер об этом тут же узнает и говорит мне: а почему меня поселили в гостинице, а Кеннеди — в коттедже? Я ему объяснил, что там все старое, плохое, правительственная дача с мебелью Собакевича, кровати скрипят...
Когда мы приехали к Кеннеди на отвальную, Дэвид в коттедже пооткрывал все дверцы, заглядывал в туалет, совал нос во все углы. И только когда убедился, что там действительно хуже, ему стало легче. Отлегло.
Или вот каким был знаменитый доктор Хаммер. Его называли "Мистер Телефон". Он мне всегда говорил: Мэлор, ты должен гордиться, что в моей телефонной книжке есть твой телефон. Когда он приезжал в Москву, он никогда не говорил: позовите такого-то, он говорил — подайте.
Однажды он прилетел в Москву и говорит мне при встрече: почему Фурцева приехала ко мне в брюках? Почему, когда приехал — и называет какого-то короля третьего мира, не помню кого, — она была в вечернем платье, а ко мне на прием приехала в брюках?.. Я отвечаю: может, она с работы или ей костюм нравится. А он не унимается. Она, говорит, просто не понимает, что этот король у меня на содержании. Я разрабатываю у него нефть и кормлю его, и к нему она приехала в вечернем платье, а ко мне — в брюках. Он потом подарил СССР какого-то Гойю, который оказался подделкой. Не мстил, конечно, но так вышло. Или, скажем, встреча с лондонским Ротшильдом. Гуляем по парку...
— А для чего вы с ним встречались?
— Я коллекционировал людей, мне было интересно. Ну вот, гуляем. И вдруг он нагибается — а ему было довольно много лет — и поднимает какую-то мелкую монету. Почистил и положил в карман. Я его спрашиваю: зачем вы это сделали? И он ответил: если бы я сейчас не поднял пятьдесят пенсов, я бы проявил неуважение к деньгам. Это во-первых. И во-вторых, это означало бы, что я как финансист конченый человек. Для меня это был бы истинный конец карьеры. С королем брильянтов Гарри Оппенгеймером мы были на его гранильной фабрике...
— Дух захватило?
— Нет, потому что вокруг были горы брильянтов. Когда я увидел в лондонском банке слитки золота, которые были похожи на кирпичи, сердце не забилось. Ну так вот, когда мы с Оппенгеймером выходили, нас обыскали. И меня, и его. Я сказал: ну ладно, меня обыскали, а вас-то... И он ответил: если бы они этого не сделали, я бы их уволил. И кроме того, нам сделали послабление: ведь мы же могли брильянт проглотить... А вечером мы пошли в ресторан "Маркс" — он еще посмеялся над названием, потому что я ведь был из СССР, — и там, помню, за соседним столиком обедала такая славная старушечка, английская королева-мать...
— Мэлор Георгиевич, вы — журналист, которого знают во всем мире, у вас 33 книги, вы пишете стихи, бывали и в джунглях, и в пустыне, преподаете в американском университете, словом, вы — баловень судьбы. Доводилось ли вам в жизни совершить поступок, о котором вы до сих пор жалеете?
— Знаете, чего я не могу себе простить? Умер Пастернак. Он был в опале, и я решил поехать на его похороны, что было рискованно. И до того как поехать, я поднялся к главному редактору "Известий" Аджубею и сказал: я еду на похороны Пастернака. Он говорит: не надо, Мэлор, там будет КГБ... Я сказал "нет" и поехал. Однако то, что я пошел к нему, означало трусливую попытку оставить себе дорогу для отступления — вот за это я до сих пор себя корю. Значит, не полностью выдавил из себя раба. А всю жизнь этим занимаюсь. Правда, не по Чехову. Выравнивание спины — вот мой труд.
— А не трудно вам жить в Америке?
— Знаете, все мои настоящие друзья умерли. И когда меня спрашивают про Америку, я всегда отвечаю: нет, самое трудное произошло, а никакая другая пустыня меня уже не пугает. Их ведь уже нет. Родина — это все-таки люди, а не территория.
***
Говорят, что газета живет один день. А я взяла в руки книжку, которую Стуруа написал 30 лет назад, — прочла не отрываясь. Говорят, что классической журналистике нет места в молодежной газете. А Мэлор Стуруа работает в "Московском комсомольце" как родной. Знаете, кто он, милорд Стуруа? Любовник жизни. Это — без возраста.