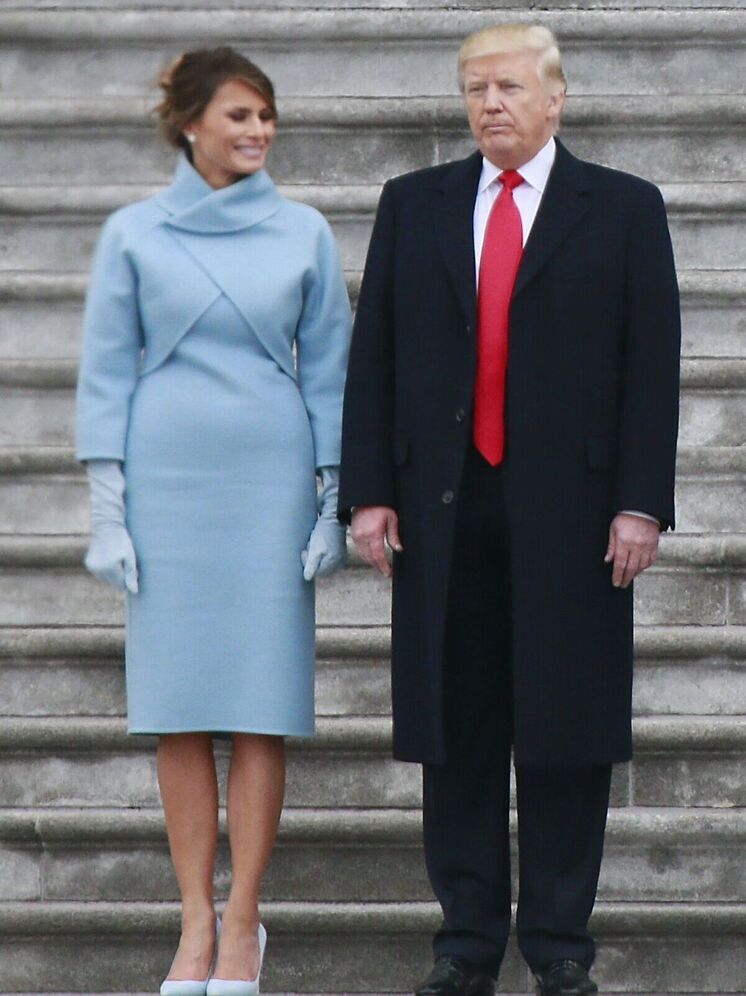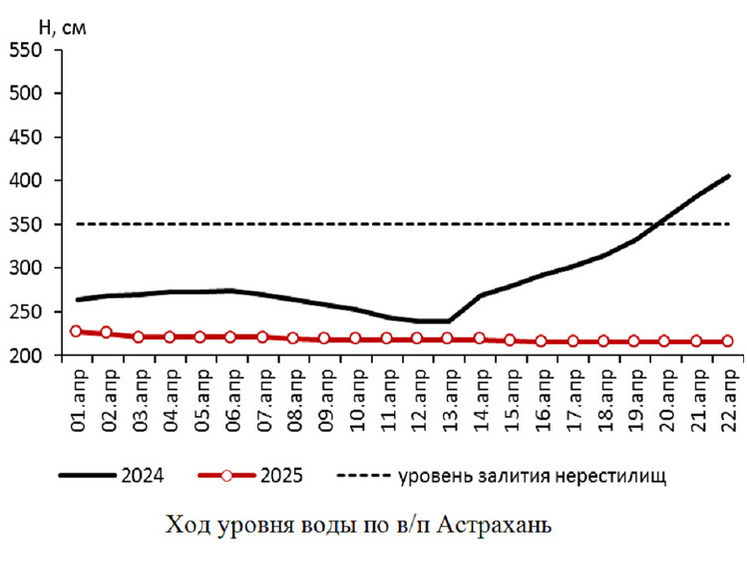— «Гул затих, я вышел на подмостки», — бормочет Румата почти про себя перед придворным поэтом Арканара.
Тот слушает с деланным вниманием, отпуская в конце дежурное:
— Неплохо. Кто написал?
— Я! — с восторгом врет Румата. Так, что, кажется, сам себе верит.
— «Сумрак ночи» — это вечер, — тут же меняется в голосе придворный поэт. — Приходи ко мне как-нибудь, я с тобой поработаю.

Румата (Леонид Ярмольник) начинает читать Пастернака машинально, в полузабытьи. Так, как он инстинктивно обнюхивает одежду землян, которые, подобно ему, работают на этой планете под прикрытием. Как пробует из разных духовых инструментов извлечь одну и ту же мелодию. Как то и дело утыкается носом в грязь, испражнения, кровь. Чтобы вспомнить родную Землю — и забыть Арканар.
Комментарий придворного поэта добавляет к тоске Руматы еще и пропасть между ним и остальными. Дело не в том, что какой-то стихоплет решил поправить нобелевского лауреата по литературе, а в том, что эти двое — из параллельных миров. Говоря просто — они никогда не поймут друг друга. И любое слово между ними — фикция, выдумка, издевка. Позже Румата прямо скажет дону Рэбе (Александр Чутко), самому влиятельному вельможе: «То, что я с вами разговариваю, еще не значит, что мы беседуем».

Так, в поисках хоть какого-нибудь собеседника, он проведет большую часть фильма.
Мимолетная сцена с декламацией Пастернака, занявшая на экране меньше минуты, — своего рода ключ к пониманию чрезвычайного киноязыка. Высокое и низкое здесь не просто перемешалось — оно сбилось в один комок. Повествование напрочь лишилось повествования. Образ полностью (или почти полностью) победил слово. И над всем то и дело витает дьявольская ухмылка автора. Раб, больше всего на свете желающий свободы и расставшийся наконец с оковами, через два шага падает замертво — прием скорее из арсенала комедий эпохи немого кино, чем трагедии о падении цивилизации. Будах (Евгений Герчаков) — единственный житель Арканара, который умеет складно управляться со словами — в разговоре не отвлекается от обстоятельного мочеиспускания. Румата, очнувшись после первого обморока, прежде всего видит здоровый член осла. (Зато после второго его будет ждать целое болото трупов, пузырьки газа от начавшегося процесса разложения и беззаботные детишки, играющие с отрубленными головами.)
Черный юмор, разбавляющий серую действительность, не стремится смягчить ужас происходящего. Скорее наоборот — подчеркивает его обыденность, а значит, неизбежность.

У этой неизбежности несколько причин. В прологе голос за кадром сообщит, что Арканар отстает от Земли примерно на 800 лет. Согласно подсчету ученых, здесь вот-вот должна наступить эпоха Возрождения. Для этих целей сюда и был отправлен отряд земных ученых, призванных только наблюдать и ни в коем случае не вмешиваться. Возрождения не случилось. Замки местные жители — преимущественно серые — построили, а вот культуру не смогли. И вместо того, чтобы наверстывать упущенное, принялись уничтожать остатки: топить умников в нужниках и запирать рыжих в Веселой башне.
Герман воспроизводит на экране свое представление о Средневековье. Латы с древних гравюр. Мечи с волнистым лезвием — что-то среднее между рыцарским и малазийским клинками. Камзолы, напоминающие тюремные робы. Появившаяся непонятно откуда самая обычная земная лопата. Время и пространство схлопнулись в одной точке. Это одновременно события недостижимого прошлого и наши дни. Так Герман добивается ощущения непрерывности человеческой истории — и ее постоянной повторяемости. Отсюда и производимый фильмом эффект, который проще объяснить терминами из области квантовой механики. Герман берет этот мир не просто на крупный план, а приближает его до состояния атомов. При желании любой из бесконечной вереницы персонажей второго плана станет главным. И даже не дождавшись вашего разрешения заглянет в кадр, всматриваясь то ли в лицо Руматы, то ли тех, кто сидит в зале. Движение камеры скорее подчиняется теории вероятности, чем законам композиции и монтажа. В каждой отдельной сцене легко найти отблески ада и рая. Отсчет действия можно произвести из любой точки.

Так наблюдение создает наблюдаемое. В этом и заключается функция бога. И в этом — его трудность.
Изобразительный ряд «Трудно быть богом» часто сравнивают с живописью Босха и Брейгеля-старшего. Сравнение отчасти верное, но слишком буквальное. Любой элемент здесь рукотворен и уникален. Если же говорить о принципе работы, то ближайшая аналогия, которая приходит на ум, — скульптурный портал Огюста Родена «Врата ада». Монументальное творение выдающегося художника, над которым он работал больше двадцати лет — и которое тоже было впервые отлито в бронзе только после его смерти. Роден, как и Герман, вдохновлялся Средневековьем, чтобы воплотить свой — абсолютно новаторский замысел. Годами оттачивая каждую из 186 фигур, украсившую семиметровые врата. «Трудно быть богом» — шедевр не меньшего масштаба. Созданный режиссером Алексеем Германом по их со Светланой Кармалитой сценарию, операторами Владимиром Ильиным и Юрием Клименко, художником-постановщиком Сергеем Коковкиным и рядом выдающихся актеров.
Трехчасовая глыба, словно отлитая в бронзе. Она появилась и стала мгновенным атрибутом истории. Над границами и континентами. Над любой актуальной повесткой дня. Будто время и пространство снова схлопнулись в одной точке. Словно он был здесь всегда.

Исполнитель роли Руматы Леонид ЯРМОЛЬНИК: «Эта картина как шифровка»
— Леонид Исаакович, что вы почувствовали, увидев готовый фильм?
— Самое главное и правильное, что я могу сказать, — у меня не было ощущения, что это я на экране. Подобное случается первый раз в моей жизни. Я как будто наблюдал за игрой другого артиста. Естественно, мне было интересно посмотреть, на что ушло все то время, что мы отдали фильму. Я знаю, как строились кадры — с какой рукотворной, невероятной тщательностью. Но то, что я увидел, все равно меня поразило. Герман сделал эту планету неохватной. Она не имеет дна. Глубина кадра простирается настолько, насколько видит глаз. Самые большие специалисты будут смотреть картину три, пять раз и не увидят ни одной лажи. Не к чему будет придраться.
Алексей Юрьевич был человеком разным. И добрым, и злым, и вздорным, и капризным, и упрямым. Больше всего на это напарывался я. Хотя нет, больше всех — Светлана Кармалита. Все-таки они дольше прожили вместе. (Смеется.) Но, думаю, из артистов, которые с ним работали, я знаю его лучше всех. С ним было очень трудно работать, но ни с кем не было так же интересно. Больше всего я расстроился, когда кино закончилось. Мне уже было все равно, когда будет премьера. Мне было важно продолжать работать.
— Что это за инструмент, на котором играет Румата?
— Это духовой инструмент, который взят с древних гравюр. Что-то среднее между сопрано-саксофоном, кларнетом, флейтой и дудкой. Как он точно называется, не очень важно. Важно, что он выглядит так, будто сделан давным-давно, и теперь таких нет.

— Это он играет в кадре?
— Это наложенный звук. У нас не было такого бюджета, чтобы сделать с нуля музыкальный инструмент, который бы еще и звучал как настоящий. И не было таких денег, чтобы научить меня на нем играть. Но я заканчивал в свое время музыкальную школу по классу аккордеона, так что примерно понимал, на какие кнопки нажимать.
— Правда, что это вы настояли на выборе мелодии для Руматы?
— Я очень хотел, чтобы это был «Караван» Эллингтона, и в какой-то момент Герман со мной согласился. Это вечная тема, вне моды. Такое ощущение, что она придумана еще Адамом и Евой и никогда не умрет. Самая фантастическая мелодия из существующих на Земле, которая не соотносится ни с каким из конкретных событий или чьей-то личной историей. Слова народные, музыка МВД — вот из этой серии. Она и стала темой Руматы. Он играет ее, когда тоскует по Земле.

— Что лишний раз доказывает его сентиментальность. Вообще в Румате много человеческого.
— Конечно! Он бог, его убить нельзя, покалечить нельзя. У него денег немерено. Он может все. Но по сути он — такой же земной, как и мы. От волнения повышается давление и из носа течет кровь. Он любит, ненавидит, хитрит, издевается, сочувствует. В нем есть все, что есть в каждом из нас, если тебя папа с мамой правильно воспитали. Герман вывел его рыцарем, героем, бессмертным Маклаудом. Но это не неуязвимая гора мышц, а все тот же человек, который стремится сделать то, что ему не подвластно. И в этом прорыв Германа. Ведь историю переделывают не мифические супергерои, а такие люди, как Румата. Правда, никому из них не удалось достичь совершенства. Именно об этом кино. Хотя я не думаю, что картину можно до конца понять. В ней заложено что-то большее, как в шифровке. Сюжет здесь — не самое главное. Важнее реакция Руматы на тех, кто его окружает. И их реакции на Румату.

— В фильме много натуралистичных и неприглядных сцен. Как вы думаете, современный зритель к ним готов?
— Сегодня по телевизору в новостях что только не покажешь — домохозяйки ко всему привыкли. Их уже ничем не удивишь. Я помню себя, когда я только пришел работать в Театр на Таганке, мы делали спектакль по пьесе Брехта «Конгресс обелителей» — про Китай. И чтобы мы прониклись темой, Любимов повез нас в Белые Столбы — смотреть документальный фильм Антониони «Китай». Гениальный абсолютно. Там есть сцена, в которой показывают проведение кесарева сечения. А это же китайская медицина, поэтому роженице не делают никаких уколов, а загоняют длинные мягкие иглы вокруг живота, под кожу. Чтобы дать ей возможность без анестезии пережить операцию. Одну иглу я выдержал. А когда стали загонять вторую, меня вынесли из зала. Полдня потом отходил. И это я был уже взрослым парнем, 23 года. А сейчас я могу смотреть все что угодно. Они и меня сделали другим.

— И все же «Трудно быть богом» — для людей с очень толстой кожей?
— Этого так много в фильме, потому что на самом деле человек живет именно в таких условиях. Мы все сморкаемся, икаем, пукаем, какаем, просто сейчас быстрее отдаем вещи в стирку. Так принято сегодня — ходить в свежей рубашке. Но по сути происходит то же самое, что и тогда. И люди те же самые — только прикид другой. Другой макияж. Так же предают, убивают, стремятся к власти любой ценой. Даже если они совсем не подходят для нее. Даже если они редкие уроды.
— Может, они думают про себя совсем по-другому.
— Я думаю, знают, что они уроды. Но надеются, что смогут каким-то способом найти таких же уродов, которые их поддержат.
— Если вокруг и так достаточно дерьма, зачем Румата мажет им себе лицо?
— Это происходит, когда он видит, как казнят женщин. И чтобы остальные не видели ужаса на его лице, не поняли, что он может вот-вот потерять сознание, мажет себя этой жидкостью. То есть примерно тем, что вытекает из женщин после аборта. Так делают люди на грани нервного срыва, укалывающие себя булавкой, чтобы сменить мозговую боль на физическую. Сцену мы сняли с шестого дубля, притом смесь была такая едкая, что я потом недели две недели промывал глаза.

— Был ли у Руматы выбор: убивать или оставаться в стороне до конца?
— Дело не в выборе. Просто у него снесло крышу и заслонка упала. Румата долго терпел, чтобы не завалить задание. Но когда убили его возлюбленную, Ари, превратился в пацана. У меня так часто бывало в жизни. Я всегда считался драчуном, потому что сначала бил, а потом думал, зачем это сделал. Но я никогда не жалел потом, что кого-то ударил. Это происходило тогда, когда кого-то обижали или кто-то по-хамски себя вел. Бытовые совершенно ситуации, но, как правило, они происходили в общественных местах, когда рядом были люди гораздо мощнее меня, даже чемпионы мира по карате. Но бил почему-то именно я. Так и Румата — он потерял человеческий облик. На него напало наваждение. Герман не показывает бои. Хотя лично мне этого немного не хватает в картине: увидеть Румату с исказившимся лицом. С лицом оборотня, которым нас порой делают жизнь и обстоятельства. Но Герман нарочно этого не делает, сразу переходя к сцене, в которой Румата встречает землян, сидя у лужи рядом с горой трупов.
— Почему он не вернулся с ними на Землю?
— Потому что там его ждут такие же люди. Земляне послали его сюда, думая, что они умные и способны построить новую цивилизацию. Но это не так, потому что они поражены теми же пороками. В этом смысла картина очень своевременная. По уровню сумасшествия того, что происходит сегодня с миром, — жизнь давно перегнала искусство. Такое ощущение, что цивилизация продержится еще лет 20, может, 50. Но все равно все идет к тому, чтобы люди уничтожили друг друга. Так что Румата остается в некотором смысле в нигде, в невесомости. Он и с этой планетой не справился, и домой возвращаться не хочет. Вот почему Герман оставил финал открытым. Он не отвечает на вопрос — он его задает.
Это кино может сделать своеобразный переворот. Особенно среди молодежи. Чтобы они сами себя открыли, свои возможности — что такое настоящее киноискусство. Конечно, ужасно, что Алексея Юрьевича не стало. Но замечательно, что он все-таки закончил свою картину. Он очень боялся, что не успеет. Он к ней относился как к делу всей своей жизни. Теперь оно завершено, и я испытываю огромное счастье оттого, что кино наконец вышло.
Правда, Герман не считал, что «Трудно быть богом» будет его последней картиной. Он мечтал сделать еще одну — «Скрипку Ротшильда». И даже как-то так осторожно мне предлагал: «Лень, ты же, наверное, не будешь больше у меня сниматься, так я тебя замучил?» Но я ответил: «Алексей Юрьевич, я буду у вас сниматься в чем угодно».