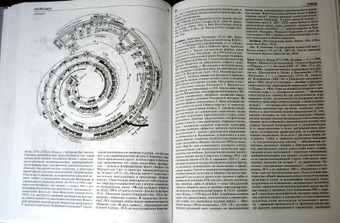Вы безмерно удивитесь, увидев на обложке энциклопедии имя… автора — известного музыковеда Левона Акопяна. Нет, человек он во всех смыслах заслуженный, но обычно пишут «под редакцией профессора такого-то», да и то скромненько, внутри. А здесь — широко, раздольно, да еще и с посвящением «дорогой жене Гае». Но самое интересное — дальше. Утверждается, что книга не имеет прецедентов в музыковедческой литературе: ведь «не жертвуя академической основательностью», автор стремился сделать изложенние увлекательным и понятным для большинства.
Получилось ли это — решать вам, но читать словарь до крайности любопытно. Вы вообще когда-нибудь читали словари подряд? Тем более, что маэстро не отказал себе в удовольствии кое-кого изящно «ущипнуть».
Многим, правда, в вечности было отказано: автор брал ключевые фигуры музыкантов именно XX столетия, нарочно проигнорировав всех — на момент завершения века — вундеркиндов (таких как Кисин, Репин, Рахлин etc.). Это ладно (хотя впереди ли у них «главные достижения»?). Но посвящая статьи Гидону Кремеру, Мише Майскому, автор, однако, не посчитал нужным рассказать о, царствие небесное, советской дирижерше №1 Веронике Дударовой, арфистке №1 Вере Дуловой, советском органисте №1, долгих лет жизни, Гарри Гродберге, наконец, живой скрипичной иконе — Викторе Третьякове. Ну не очевиден, видать, их вклад в общемировую копилку. Не вписались как следует в контекст. Я уж молчу там о пианистах Андрее Гаврилове, Элисо Вирсаладзе…
На счет Дуловой, правда, непонятно. Хорошо, отметаем всякие выступления на льдине для полярников (что само по себе — чем не авангард — сильный художественный жест по тому времени), дружбу с Шостаковичем, госпремии, берем сухой остаток как в случае с Башметом или Ростроповичем: Башмет одним собою расширил альтовый репертуар, Ростропович — виолончельный. Так и для Дуловой писали с десяток современных композиторов. (Зато Губайдулиной и Штокхаузену посвящены не только персональные статьи, — целых колонок удостоились наиболее знаковые их произведения).
Кстати, о Штокхаузене: «Несомненно выдающийся музыкант, генератор новаторских идей, легенда 1950-60-х годов, Ш. со временем превратился в своего рода пророка или гуру небольшой группы истовых приверженцев, обеспечивающих единственно «аутентичное» истолкование его музыки. […] На склоне лет Ш. остальной мир вспоминал о нем преимущественно либо в связи с его экстравагантными акциями (наподобие «Вертолетного струнного квартета» из «Среды», исполненного в 1995 в Амстердаме с участием четырех вертолетов, в каждом из которых сидело по одному музыканту), либо в связи с его не менее экстравагантными высказываниями (террористическую атаку на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года он объявил «величайшим произведением искусства»)».
Нет, скажем, отдельной статьи и о композиторе Десятникове (нынешнем музидеологе Большого театра), зато есть красивая ему запятая в статье про Гидона Маркусовича Кремера: «…Кремеру не чужда известная эксцентричность, которая проявляется в его пристрастии — порой навязчивом — к легкой музыке, разного рода пародийным и юмористическим миниатюрам и непритязательным «постмодернистским» поделкам, в т.ч. авторства петербургского композитора Леонида Десятникова».
Или вот, что, например, говорится о Тихоне Хренникове: «…Свою репутацию надежного певца советского строя Х. утвердил музыкой к колхозной кинопасторали Ивана Пырьева «Свинарка и пастух» и песнями военных лет. […] В период ждановщины (1948) оказался наиболее подходящим кандидатом на роль официального лидера советской музыки. […] Заслугой Х. следует признать то, что на начальном этапе его правления никто из видных «формалистов» не был исключен из Союза композиторов. Он также оградил СК от юдофобской кампании 1949 года…».
В главках о современниках то там, то сям проскакивает любимая фраза автора «в его лучшие годы». Так — о Спивакове: «Благодаря изысканному исполнительскому мастерству, разнообразному репертуару и незаурядному искусству превращать свои выступления в эффектные шоу быстро завоевал широкую известность как солист. […] В лучшие годы С. его индивидуальность интереснее раскрывалась в музыке некоторых композиторов XX века, в т.ч. Гартмана, Шостаковича, Щедрина…». О Башмете: «Основное достоинство Башмета-инструменталиста в его лучшие годы — исключительно красивый, интенсивный, чистый и благородный тон».
О Плетневе: «…Культивирует подчеркнуто сдержанную, скорее интровертную, сосредоточенную манеру музицирования и эстрадного поведения. В искусстве П. образцовая ясность артикуляции и точный архитектонический расчет сочетаются с тенденцией к несколько преувеличенному глубокомыслию; последняя особенно характерна для П.-пианиста и выражается в чрезмерном подчеркивании значимости замедлений и пауз, «подголосков» в полифонической ткани, выделенных из контекста мотивов и даже стандартных кадансовых оборотов. При этом маньеризм у П. никогда не перерастает в претенциозность, истовость — в аффектацию».
О Ростроповиче: «…Р. был не только «всеяден», но и в высшей степени гибок; его бурный темперамент умерялся безошибочным чувством стиля».
О Геннадии Рождественском: «Лучшие работы Р. исключительны по совершенству исполнения, но репертуарная «всеядность» иногда оборачивается у него известной небрежностью отделки».
О Мосолове: «…В 1937-38 несколько месяцев провел в лагере по обвинению в антисоветской агитации, был освобожден по ходатайству своих учителей Глиэра и Мясковского. Впоследствии обрабатывал народные песни для Северного русского хора (Архангельск)».
О Ван Клиберне: «…Склонность к чрезмерной аффектации и стилистическое однообразие привели к тому, что публика довольно быстро перестала интересоваться его искусством». Насладитесь.
NB. Отдельное, впрочем, спасибо за целую колонку (пол-страницы) про Алексея Станчинского, — парадоксально, но имя этого, почти не исполняемого, композитора продолжает жить в сердцах людей, которые, зачастую, всего-то и знают про него, что С. был найден мертвым на реке в свои 26 лет (1914), а в творчестве испытал влияние Скрябина…