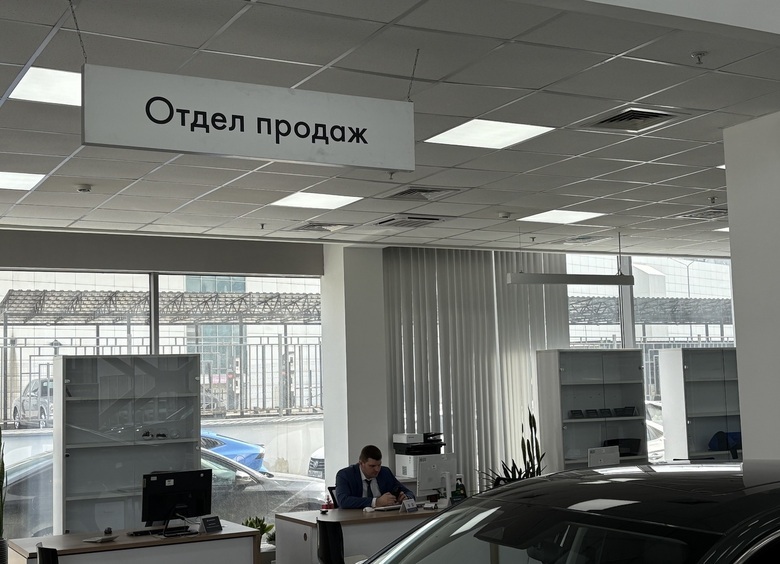…От его Петра в “Шуте” все были в потрясении. Спектакль в спектакле. Многие критики, даже не очень благосклонные к “Ленкому”, в момент назвали Петра лучшей ролью Янковского. Озорной гротескный антураж, фирменная горинская ирония с перекличками в современность, встающая дыбом сцена от Шейнциса и… капитально сваянный, цельный образ Властителя. Не императора там с картинки или из фильма, “как все привыкли”, — то была роль на прострел, он пригвоздил свою скорбь, отчуждение, грусть, одиночество, переступил через все, чтоб просто и чисто, без стыда взглянуть людям в глаза. Большая, знаете ли, привилегия.
И вот весь подтянутый, с иголочки, в темном френче, он поднимается в лифте к нам, на пятый этаж. По дороге задирает Колю Караченцова, весел был беспредельно. Хотя через секунду серьезнел, этот его мистический взгляд “вглубь”… Тот же Сережа Фролов (напарник Янковского, собственно шут) рассказывал, как поначалу Олега Ивановича очень боялся. Для Фролова-то — первая крупная роль, а тут — мэтр, отец-основатель театра. “Начинаю вот на репетиции текст читать, — Сергей говорит, — а тут он сидит напротив в своей знаменитой позе, закрывая ладонью рот. И смотрит. Не знал, что это его обычное состояние, его специфика, так он на всех глядит…”.
Энергия, удаль — в каждом шаге. Всегда был цельным. Не робел. Даже когда не робеть невозможно. Этот его последний выход в “Женитьбе” в роли Жевакина, когда он с Кочкаревым вышучивает свои же похудевшие после процедур ноги, а чего стоит последний монолог вслед уходящей Агафье Тихоновне: “Сударыня, позвольте! Скажите причину: зачем? Почему? Или во мне какой-либо существенный изъян, что ли? Но вот ушла… Престранный случай!”
На сцене один остается, осветитель прибирает свет.
“Темно, чрезвычайно темно! Видно, приходится поворотить оглобли. Пойду домой”. Пауза, подходит к двери. Оборачивается. “А жаль, право жаль. Прощайте”. Последнего слова нет у Гоголя. С шумом стукает дверь. И мгновенные слезы у всех, кто сидит в темном зале с цветами. Месяц-другой, и те же цветы упадут к ленкомовским стенам…
— А в следующий раз за что дадите? — улыбнулся, выходя из “эмкашного” подъезда.
Таким мы его и запомнили.