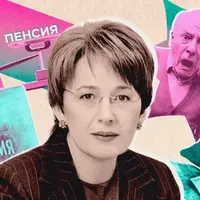Лет 20 назад он начинает как уличный автор, но шустро перерастает это направление — формально и идейно. Становится полноценным художником, прозвучав на международных выставках, биеннале... Когда 10 лет назад запускается «ВИНЗАВОД», Миша устраивает тут фестиваль граффити. Потом обзаводится здесь мастерской, где устраивает не один ударный проект. Собственно, а где и нынешнюю — «Эволюция 2.1» с орудующим дроном — презентовать как не на родной площадке?
Разворачивается она на «ВИНЗАВОДЕ» — как сюжет юбилейного цикла «Прощание с вечной молодостью». Несмотря на наивное название, проект — серьезный: представляет художников нового поколения, которым предрекают перевернуть будущее. По паспорту многие из них еще молодые, слегка за 30, а по факту — уже давно заявили о себе на международном уровне, завоевав статус «знаковых».
Так называемый «Цех Белого». С порога в зале второго этажа ошеломляет грандиозное панно (28 м). На нем — футуристическое раздолье: розовые роботы, человеческий мозг с голубыми подтеками, салатовые схемы строения атома, фиолетовая спираль ДНК, желтая молекула, полупрозрачные ученые... Четкость линий — феноменальная. Это дело рук октокоптера (дрона), то есть Миши, который его придумал и воплотил в реальность с помощью инженеров из TsuruRobotics и программистов из Interactive Lab.
На наших глазах они запускают машину, состоящую из восьми пропеллеров и двух баллонов с краской, оснащенных актуаром (системой нажатия). Это позволяет за один полёт наносить линии разной толщины и разных цветов. На компьютере настраивают траекторию движения в специальной программе «Управление с земли», куда забит эскиз работы Миши. Дрон поднимается, подлетает к панно и четко внутри контура распыляет спрей. Рисует автоматически, так как есть спецпрограма, которая передает координаты, когда надо нажать на кэп (распылитель), а когда перелететь к другому элементу. В это время машина контролируют с помощью джойстика, а на другом компьютере следят за ее поведением.
– Она реагирует на воздушные потоки и сенсорные датчики, – объясняет инженер. – Если возникнут проблемы, например, дрон уйдет с заданного пути и начнет хулиганить, то есть выполнять кульбиты (сальто), его придется посадить в ручном режиме.
Это случается во время тестирования, когда создаются семь пробных работ ММ01-ММ07. Из абстрактных полотен они трансформируются в предметные истории. Эта эволюция обучения дрона — результат последовательных тренировок в изображении отдельных элементов. Они — на массивных конструкциях из металлических профилей.
Мимо них на борде проносится и сам герой.
– Миша, вы и по городу так передвигаетесь?
– Нет, в основном на метро и такси, с тех пор как оно подешевело.
– Вы же в метро оставляли художественные следы. Не ловили?
– Было дело. Давно. В метро, к счастью, не ловили…
– Когда вы переходили с улицы в закрытое пространство, не возникло ощущения, что вас сковывают?
– Если перехожу в новое пространство, должен принять его правила. Они не такие же, как в граффити и на улице. Важно понимать разницу между этим. Граффити — это в основном командный уличный спорт. Не галерейная живопись. Хотя и в ней есть единичные примеры соавторства. Из удачных — Уорхол и Баския, Виноградов и Дубосарский... Граффити — общее дело.

– Не обидно, что ваша индивидуальность в нём распыляется?
– Здесь работает командный дух. Он заряжает на действо. Ты же в футбол не пойдешь один играть, так и на улице. Еще больше это сравнимо с выступлением на олимпийских играх, где ты в команде представляешь страну. В стрит-арте, в отличие от граффити, упор делается на единичность, как у Бэнкси.
– В чем, по-вашему, феномен его популярности?
– В языке, понятном каждому. Он переносит карикатуры с последних страниц газет на улицу. Королева в смешном облачении. Полицейский мочится на стену. Ничего сложного для понимая простого прохожего.
– Это плохо?
– Нет, Бэнкси расширил границы уличного искусства, выведя его из рамок субкультуры на открытую площадку. При этом он высмеивает социальные явления.
– А у вас какие цели?
– От пластических до идейных. Вечные вопросы иногда затрагиваю: жизнь, смерть, любовь… Конкретно эта серия связана с будущим. Она изображена простыми элементами, так как мы готовили её для дрона. Моя рукотворная живопись была бы посложнее. Набор этих элементов олицетворяет связь человека с наукой, общество с технологиями, прогресс в целом. Конечно, не идеализирую его. В том, что роботы захватывают наши рабочие места – положительного столько же, сколько отрицательно. Но я не даю оценок — только обозначаю перспективу.
– Как возникла идея сделать дрон?
– Эта идея витала в воздухе. Только я первый ее реализовал на таком уровне.
– Теперь каждый может это повторить?
– Пожалуйста. Все к этому идет.
– Какова тут роль творца?
– Пока она остается за мной. Дрон — мой ассистент. Сейчас я еще говорил ему, что делать. Но на следующем проекте загружу свою базу элементов в программу искусственного интеллекта, и он сам по алгоритму создаст композицию. А дрон ее нарисует.
– Опасная игра.
– Недавно основатель Фейсбук Марк Цукерберг сказал, что Илон Маск (создатель SpaceX и Tesla) только пугает нас, что скоро искусственный интеллект поглотит человечество. А через неделю порожденные им боты создают в соцсети непонятный язык и передают на нем информацию... Да, лень — двигатель прогресса. Но если человек сильно расслабится – совсем потеряет контроль над ситуацией. То же самое происходит с утратой знаний. Многие не напрягаются: считают, что все можно найти в интернете за пять секунд. Зачем уметь считать, если есть калькулятор. С этого все и началось. Раньше люди мозг тренировали, стихи учили, а сейчас все больше полагаются на компьютер...
– Далеко не все.
– Я про тенденцию. Классно создателям искусственного интеллекта. Они – сумасшедшие исследователи, хотят по максимуму выжать из науки. Как я — из искусства. Они создают фальшивого человека, чтобы он был похож на настоящего, стал его копией. Но зачем? В какой-то момент, я надеюсь, придумают закон, запрещающий андроиду или роботу быть идентичным облику человека. Это эстетический и этический моменты.
– Какова роль художника в этой ситуации?
– Показывать привычные вещи с другого ракурса. Подготовить зрителя, дать ему новую информацию. Это распространяется на все виды искусства.
– Что сейчас происходит со стрит-артом?
– Примерно в 2000-х он он стал формироваться как отдельное направление. Сегодня становится более сложной, всеобъемлющей сферой, обладая этом кучей тонкостей. Несмотря на кажущуюся свободу это очень зажатое искусство. Оно стиснуто стилистически, физически, отчасти материально.

– Вы против коммерциализации искусства?
– Я не хотел бы нарисовать трафарет на улице, тут же перерисовать его на холст и повесить в галерею. Это уже продажность. Когда Бэнкси берёт холст и что-то к нему подрисовывает — это его труд, но он не связан с улицей. Ты либо рисуешь бесплатно для всех, либо рисуешь на улице для пиара своих коммерческих проектов. Это тонкие вещи. Многим со стороны не видно разницы: трафарет и трафарет, и что? А стрит-арт вообще появился из трафаретов, логотипов, постеров. Вот ты рисовал на улице и продвигал таким образом своё имя – это не было связано с коммерческой историей. А потом раз – и продаёшь эти уличные рисунки. Одно дело — творчеством заниматься, другое – перетягивать улицу в галерейное пространство. Думаю, это неправильно. На этой выставки я не продаю улицу. Старался, чтобы слова "граффити", "уличное" минимально присутствовали. Люди до сих думают, если рисунок создан баллончиком – перед нами граффити. Это настолько древние стереотипы, что приходиться напрягаться, чтобы от них уйти.
– Как неподготовленному зрителю разобраться в вашем мире?
– Всё началось с граффити. Шрифты, имена, буквы... Это всё Нью-Йорк 1970-х. Потом появился стрит-арт – это уже символы, рисунки, – месседж. Оба течения были нелегальными. К стрит-арту проявили повышенное внимание, что привело к его легализации. Он приятен людям: красивый рисуночек, почему бы и нет. А граффити тяготеет к вандализму. Эти жанры переходят друг в друга, между ними нет чёткой границы. Стрит-арт дальше перетекает в морализм – росписи больших фасадов, монументальную живопись. Она — легальна, потому что делается на городские деньги. С граффити город борется, закрашивает, а тут — прямая поддержка, в том числе финансовая. Это не одно и то же. Разные изображения, мотивация, посыл...
– Вас задевает, когда это путают?
– Неприятно, когда приходим к тому, что мою работу в Выксе (почти 10 тыс. кв. м., что обеспечило ей попадание в книгу рекордов России, Европы, зарегистрирована на Гиннесса. – «МК») называют граффити, потому что она "баллончиком нарисована". Исходя из этой логики, всё, что нарисовано кисточкой, — живопись. Хотя всё другое: размер, качество, посыл...Там ты бежишь, нелегально пачкаешь стены, пишешь своё имя, распространяешь его... А тут — выполняешь работу легально с дополнительной техникой и бюджетом.
– Внутреннего противоречия не возникает?
– Я же как художник не перестал рисовать на улице. Хотя многие перестают это делать, потому что считают граффити детским занятием. А в этом – большая энергетика. По дороге на «Винзавод» есть мои нелегальные граффити.
– Внезапная необходимость выбросить лишнюю энергетику?
– Это спорт и максимальная свобода творчества. Я никого не спрашиваю. Пошёл и сделал. Когда уличные художники превращаются в оформителей по заказу, занимаются декоративными фасадами...
– За это власти, в частности Минкульт, взялись. Но от многих таких вещей, особенно патриотически-исторических, пахнет фальшью.
– А в Лондоне тоже Минкульт этим занимается? Или в Америке?
– В Лондоне Минкульт в это не вмешивается. Его вообще там не слышно, не видно, как во всех цивилизованных странах.
– Там единицы фасадов, которые город делал. Думаю, никто из этого теорию заговора не плетёт. У нас дело не в Минкульте. Было много частных проектов со смелыми абстрактными рисунками, практически полной свободой творчества – я удивлялся, что они на стенах появлялись. Вот историческая тематика – другое, это не уличное искусство, а соцреклама и госзаказ.

– За них же тоже может взяться талантливый автор?
– У нас куча талантливых работ, которые во время фестивалей "Most" и «Лучший город земли» 300-400 стен разрисовали. Конечно же, город платил за это деньги, они шли художникам, кураторам. Это нормально. Раньше вместо этого баннеры печатали, но они сейчас запрещены, вот и разрисовывают фасады.
– Как вы определяете художественную ценность в уличном искусстве?
– Так же, как и в живописи: цвета, сочетание, композиция, смысловой посыл...
– Насколько вы готовы подогнать свою работу под желание заказчика?
– Сильно изменить не могу, иначе мой зритель пройдет мимо. В идеале, стиль художника должен быть узнаваем. Но каждый раз надо совершать какой-то прорыв в искусстве – внешне и внутренне. Каждый раз ты должен открывать в себе что-то новое. Кто-то исследует пластику, кто-то - тематику...
– А вы что исследуете?
– Стараюсь то и другое. Занимаюсь живописью. Я к ней подошёл по-иному, придумав новый инструмент. Делаю что-то, казалось бы, классическое, но иначе. Рождается новая пластика, новый подход. Это прорыв как в моём личном творчестве, так и в мировой практике, потому что такую работу никто ещё не делал.
– Смотрите, девочки делают селфи на фоне ваших работ. Какие ощущения?
– Скорее всего, эта мода скоро пройдет. Как взаимодействуют с моим искусством — для меня непринципиально. Когда на улице работу оставляю, не знаю же, что с ней произойдет. Может кто-то камнем кинет, другой — закрасит. У нее своя жизнь — без меня.
– Вам это легко дается?
– С холстами — нет, а с уличными работами — да. Хотя неприятно, если их зарисовывают свои, а не представители власти.
– Кого вы представляете в своих работах?
– Не себя — страну. Нет такого понятия – международный художник, хотя я во многих странах делал выставки. Всегда важно, где ты вырос, где учился. Это твой контекст, который характеризует твои работы. Куда бы я ни приехал, говорю, что из России. У людей сразу возникает контекст моего искусства. А если не возникает, то через мои работы у них, надеюсь, появляется желание узнать наше искусство. Тем более его история богата, особенно ХХ век. Есть страны, которые выстрелили в современном искусстве сильнее, чем мы, хотя в ХХ веке у них, по сути, был только соцреализм. Например, Китай. У нас все было, но этого пока недооценили.
– Кто виноват?
– Мы, конечно. Мало выставок проводим за рубежом, нечасто сообщаем о себе. Кто-то сужает себя рамками, считая, что его искусство только местного контекста. Мое искусство, к примеру, интернационально. Если бы иностранцы постоянно видели нас на выставках, на биеннале, на аукционах, они бы больше нас понимали и проявляли к нам интерес. Как китайцы поднялись? Они миллионы начали вкладывать на аукционах в свои же работы. Цены взорвались, многие обратили внимание и тоже стали покупать.
– Только что куратор Московской биеннале Юко Хасегава сказала мне, что проблема наших художников в том, что они не выходят на иностранных кураторов, которые способны оценить и дать советы с другого ракурса. Что нужно, чтобы такой куратор захотел с тобой работать?
– Международные кураторы берутся за художника, если он известный. Если ты уже сотрудничал с какой-то галереей, продаёшь работы, если крупные коллекционеры есть. Иногда даже суть работ меньше важна, чем пиар вокруг них. Нравится вещь, но у тебя размаха мало. Привезут твою выставку, а рассказать о тебе нечего. Западная аудитория привыкла к своему местному контексту, чтобы изучать что-то новое, им нужна привязка. Это мы в России очень открытые: кого бы к нам ни привезли, всех ходим и смотрим. На уровне просмотра и на Западе эта же схема работает, а на уровне вложений — нет. Нас покупают иностранцы, но в основном здесь, когда они на месте изучили специфику художника. Говорю широкими мазками, но это тенденция.
– А как вам удалось попасть с выставкой в лондонскую галерею Lazarides? Не говорю про другие ваши международные проекты...
– Это тот редкий случай, когда галерейщик приехал посмотреть мои работы в Москву. Они понравились ему, и он решил показать их в Лондоне, так как в тот момент был спрос на русское искусство среди наших эмигрантов. Но тогда же произошли события на Украине, самолет упал. Заголовки в английской прессе пошли: «Путин сбил голландских детей». Политическая пропаганда в Великобритании мощно работает. Галерист с упреком говорит: «Вы тут каждый день в новостях». Ему даже пришлось выставку Бэнкси в Москве отменить. Никто ж не объявляет, что мы открытие совершили, в частности, лекарство открыли новое, а про культуру тем более не пишут. Сложно в параллели с этим строить положительный образ нашего современного искусства. Хотя в живописи очень даже воспринимают период революции. Это доказывает ажиотаж вокруг недавней нашей выставки об этом в лондонской Академии художеств.
– Сегодня, по-вашему, можно сотворить революцию в искусстве?
– Сложно. Искусство в основном коммерциализировано. Хотя я стараюсь. Разве дрон – не революция?! Хочется, чтобы об этом и на Западе узнали. Видео и тексты на английском записываю сейчас — разошлем по иностранным СМИ. В книгу рекордов Гиннесса мы тоже сами заявку подавали. Только с ней мутная история. У них есть раздел по мурализму, но там все хитро: якобы, можно работать только спреем. Когда зашла речь о моей работе, началась длинная переписка. Я уже не выдержал и спросил: почему они мурализм зажали в рамки спрея, балончика? Я ведь работал кистями, валиками, краскопультами... Как художника можно ограничивать в средствах? Кобра работал аэрографом, Сикейрос – кисточками. Это не важно: краска на стене —живопись. Балончик — это инструмент. Та же краска. В общем, сегодня художник не может заниматься только творчеством.
– Растрачивание себя не происходит в такие моменты?
– Это как сделать холст и натянуть его на хреновый подрамник, который через полгода поведет, треснет деревяшка, и он весь развалится. Если создаешь произведение, то каждая, казалось бы, мелочь должна быть проработана. Это правило для всех видов искусства.
– У вас широкие интересы в культуре?
– Я открыт ко всему. Стараюсь много смотреть и читать, чтобы сформировать свое мнение. У меня нет предпочтений, типа хожу только в «Гоголь-центр» и смотрю лишь телеканал «Дождь». Люди не должны вгонять себя в рамки. Для меня важно погружаться в искусство других форм, других художников. Надо следить за всем, чтобы не повторяться, чтобы не проваливаться в прошлое.
– Вернемся к Бэнкси. Он же заигрывает с социально-политическим контекстом. Вам не кажется, что в том числе поэтому он прочно засел в массовом сознании? Павленский — тоже. Что думаете?
– Бэнкси больше про социалку. А у политического искусства короткий срок жизни, потому что оно пытается заниматься пропагандой здесь и сейчас. Через год меняется повестка, и это уже никому не интересно. У меня другой путь – художественный. Могу и говорю о социальных вещах, политических, но стараюсь, чтоб, в первую очередь, это было искусством. Искусство должно быть выше сиюминутности.