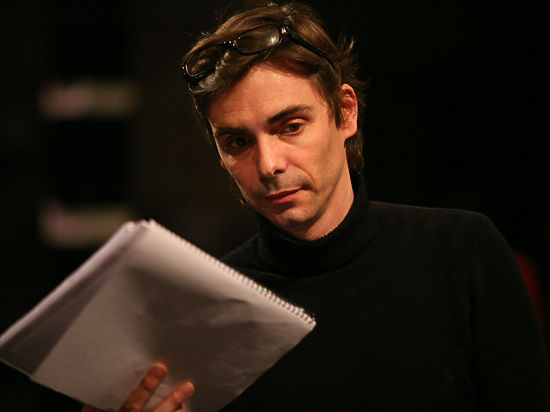— Эмманюэль, кто, на твой взгляд, точнее из классиков сегодня отражает время — Бальзак или Ионеско?
— Оба — поэтому я их и ставлю. Ионеско прекрасно рассказывает о человеческих драмах, с таким жестоким юмором: в каждой сцене есть что-то комичное — и в то же время оно является трагичным. А вот Бальзак, его пьеса «Делец», написанная в конце ХIХ века, рассказывает совсем о другом — о восхищении деньгами и о лжи, которая всегда идет под руку с деньгами. И пьеса «Делец» показывает, что деньги — это дьявол.
— Ну это сегодняшний день. Даже трудно реально оценить роль денег в современном мире — настолько она велика.
— Я поставил Бальзака сразу после Ионеско. И если Ионеско совсем не говорит об экономике жизни, то Бальзак действительно близок к современному обществу, и это является абсолютно универсальным мировым пониманием. Мы видим, что во многих странах заканчиваются политические утопии, и в этом мире остается одна единственная мысль: как побольше заработать денег. А это показывает обеднение человеческих отношений. Когда я поставил «Дельца» в Париже, зрители думали, что я его переписал, адаптировал. Но на самом деле я, что называется, побуквенно ставил всё, что именно написал Бальзак. Ничего не поменял.
— А какое у тебя отношение к деньгам? А то многие художники, во всяком случае у нас, любят порассуждать о чужой корысти, а сами за копейку удавятся.
— То, чем я занимаюсь, никогда не мотивируется денежными нуждами. Иначе я бы другим занимался. Мне предлагали, например, ставить оперы или ставить в частном театре, но моя сегодняшняя работа — заниматься Театром де ля Виль и осенним фестивалем в Париже. А их миссия служить зрителям, обществу. И обе эти организации несут ответственность перед городом. А я должен давать работу актерам, актерским коллективам, найти такую экономическую модель, которая позволяла бы им существовать. У меня в труппе 15–18 артистов — хотя у нас исчезло понятие труппы как таковой, все стало очень индивидуально: артисты работают с кучей разных режиссеров, а режиссеры — одновременно во многих театрах. Для меня вопрос денег — это что-то, что меня совершенно не интересует.
— Неожиданно. Значит ли это, что ты себя ограничиваешь в жизненных запросах? А как же семья? Жена? Наконец, статус: режиссер твоего уровня должен жить хорошо.
— Когда я пришел в Театр де ля Виль, я сразу понизил зарплату директора, то есть свою собственную. Потому что тому, кто был директором до меня, было 70, а мне — 38, и я решил, что зарабатывать вполовину меньше было бы вполне логично. Меня никто не заставлял принимать такое решение, но я подумал, что это правильно и нормально.
— Знаете, я в растерянности: мы к такому не привыкли. Мне кажется, что особенно для художника это серьезный вопрос: выбор между деньгами и художественной жизнью. Не все справляются.
— Я ничего не имею против тех, кто хочет заработать, но для меня совершенно ясно: надо выбирать, где ты хочешь зарабатывать. Если я решу больше не руководить театром, а решу поставить несколько спектаклей подряд в разных театрах, тогда я заработаю гораздо больше. Но это не мой путь. Сегодня меня это совершенно не интересует, уже лет двадцать. Когда меня назначили директором осеннего фестиваля, я понизил зарплату директора Театра де ля Виль и вполовину директора осеннего фестиваля. Когда я ставлю спектакли в своем театре, я не беру гонорары как режиссер. Когда спектакли играются по всему миру, я ничего с этого не имею — за границей или во Франции для меня это не имеет значения. Это мое решение.
— Это твой принцип — отказ от гонорара?
— У меня есть зарплата директора Театра де ля Виль. И моя режиссерская работа является частью моих обязанностей как директора театра. То есть я не плачу себе за каждую новую постановку.
— А если ты ставишь за границей?
— Я принял решение пока ничего не делать в других театрах — только в Театре де ля Виль. В течение этих пяти лет я отказался от постановок в Берлине, Нью-Йорке, Лиссабоне и т.д. У меня должен получиться проект, благодаря которому меня назначили директором Театра де ля Виль.
— Он сумасшедший, подумают многие директора и режиссеры московских театров. Ты слышал такое мнение во Франции?
— Я не сумасшедший, просто того, что я зарабатываю, мне достаточно, а если мне понадобится больше, я решу, что мне с этим делать.
— Извини, что я педалирую эту тему, но очень часто приходится сталкиваться с тем, что режиссеры начинают разговор с гонорара, и для них он является мерилом многого: собственной значимости, статуса. Модный, скандальный — значит, дорогой режиссер.
— Помимо принципов люди, с которыми я работаю, понимают мой выбор и согласны с ним. Каждый из нас должен быть разумен.
— Время серьезно поменяло роль театра в жизни общества. Какова роль театра сегодня? А может быть, ее и нет — просто досуг человека, уставшего от проблем жизни?
— Есть, конечно, и даже несколько задач. По всей планете есть все больше и больше людей, которые идут в театр. Я много путешествую со своими спектаклями по миру и вижу, как много появилось фестивалей за последние 30 лет, которые защищают театральный мир. А театр — это место диалога между людьми из одной или разных стран. Это то место, которому мы посвящаем время, чтобы быть вместе. И где другие люди рассказывают нам какую-то историю. Эти истории позволяют нам думать о мире, о страданиях, радостях. Это как бы творческое зеркало повседневной жизни. Это невероятный шик. И это не денежный шик — душевный, умственный и чувственный.
Театр имеет довольно священный размах, потому что люди собираются, чтобы послушать что-то и потом обсудить это. Не согласиться: например, они могут свистеть, не хлопать — это место свободы.
— Вопрос о свободе. В российском театре идет дискуссия о границах дозволенного в разговоре со зрителем. Кто-то считает, что никаких табу не должно быть, другие, напротив, предупреждают об опасности вседозволенности. У тебя есть табу?
— Нужно понять, что такое табу. Если это что-то навязанное — тогда это форма цензуры, ограничение возможностей самовыражения. Вот против этого надо протестовать. Скажем, если мы решаем высказаться на тему, которая шокируют нас или некоторых из нас, — религии, сексуальности, насилия, убийства, — мы должны иметь возможность об этом говорить. Но тот, кто об этом говорит, должен найти ту грань, до которой эта провокация может идти. Провокация нужна, заставляет нас думать, размышлять и искать, но это очень большая ответственность — и художник должен обосновать свою провокацию. Это очень сложный вопрос на самом деле. Иначе мы придем к тому, что любой идиот, высказываясь на сложную тему, будет считать себя художником. Провокация не может быть конечной целью, а должна стать необходимостью.