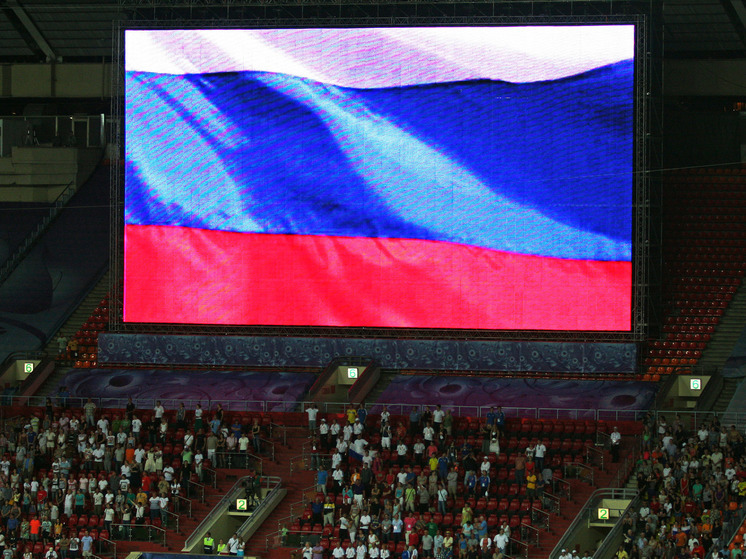Сцену в РАМТе, как бесстыдную девицу, раздели и выставили напоказ всю, до задника, и использовали так, чтобы на ней поместилось все: зал судебных заседаний, пивнушка, улица, опера Бетховена и еще черт знает что. Все и главное — одновременно. Такое возможно без перемен декораций усилиями театральной техники и монтировщиков? Оказалось более чем — стараниями художника Станислава Бенедиктова, который даже цвет деревянных панелей повторил точь-в-точь как на обшивке в том знаменитом на весь мир Нюрнбергском суде. Он и в наше относительно мирное время продолжает судить/рядить граждан.
Надпись наверху, как и название спектакля, отсылает нас к знаменитому процессу над лидерами и идеологами Третьего рейха, призванными к ответу за убийства, жестокости, пытки, зверства, не имеющие себе равных. Но не они в центре внимания, а один из малых процессов, на котором слушались дела нацистских судей.
ИЗ ДОСЬЕ "МК"
В основе «Нюрнберга» — киносценарий Эбби Манна, по которому в 1961-м Стенли Крамер снял свой знаменитый фильм, выдвинутый на «Оскара» аж в одиннадцати номинациях, две из которых он таки получил за лучший сценарий (Эбби Манн) и за лучшую мужскую роль (Максимиллиан Шелл). В том «Нюрнберге» снимались кроме Шелла Спенсер Трейси, Марлен Дитрих.
На самом деле у Бородина на сцене несколько Нюрнбергов — юридически-процессуальный, исторический и бытовой, которым с самого начала отказано в сепаратном существовании. С самого начала есть растерянность — суд это или пивной ресторан, где официанты элегантно с прямыми спинами скользят от столика к столику с кружками пенного? Путаницы добавляет маленький музыкальный составчик (пианино, саксофон, гитара) справа и совсем в глубине — эстрадка, на которой... мама родная... прости господи... Но при этом ближе к авансцене идет текст:
— Правосудие было отдано в руки диктатуры. В целях защиты государства... Судьи стали зависеть от сил, не имеющих отношения к правосудию. Был принят закон о чрезвычайных полномочиях власти, который нарушал положения Веймарской конституции и записанные в ней гражданские права. Вместо объективного рассмотрения дела главным приоритетом судьи стало вынесение обвинительных приговоров политически неблагонадежным лицам. (Ничего не напоминает?) И при этом — серьезные заявления, типа: «Права она или нет, но это моя страна». Это сказал один великий американский патриот. Немецкий патриот может повторить эти слова. А русский-то патриот чем хуже? — хочется спросить из зала в ответ на текст, написанный более 50 лет назад.
Сценарий не зря был отмечен «Оскаром» — как будто сегодня и про сегодня писан. Хотите про Америку? Пожалуйста: «Нет, все-таки мы, американцы, не созданы быть оккупантами» (замечу, принадлежит не российскому пропагандисту). А про русскую угрозу желаете? Извольте слушать: «Трумэн заявил: в связи с событиями в Чехословакии (к власти пришли коммунисты. — М.Р.) необходимо укрепить военную готовность. Он выразил опасение относительно способности западных наций выжить в условиях восточной угрозы». «Восточной угрозы!» Вы слышите?! То же самое, что говорил Гитлер. Борьба Востока и Запада за выживание».

И зал, где точно две трети молодежи, слушает очень внимательно, несмотря на скучноватую политическую и судебную риторику (все ж таки в театр пришли, не на митинг). И у этой сосредоточенности есть несколько объяснений: во-первых, это мощное полифоничное зрелище, что сродни опере с хорами и протагонистами (отличные работы Евгения Редько, Александра Гришина, Ильи Исаева). Достаточно сказать, что на сцене под 60 человек в постоянном движении, и это на сегодняшний день самый многонаселенная драма Москвы. Жесткая энергичная режиссура, резкий монтаж эмоционально разнозаряженных сцен. Вот характерный пример: после просмотра на воображаемом экране (со сцены все смотрят в зал как бы поверх публики) фильма о зверствах фашизма в концлагерях — диалог двух подсудимых:
— Они говорят, что мы убили миллионы людей. Это невозможно.
— Возможно.
— Как?
— Вы спрашиваете, как это было технически возможно? Все зависит от пропускной способности. Допустим, у вас имеются две газовые камеры, вмещающие каждая две тысячи человек. Считайте. Есть возможность избавиться от десяти тысяч человек за полчаса. Убивать — это вовсе не проблема, проблема — куда девать трупы.
И тут же налетает веселая толпа с криками мальчишек на Маркплатц: «Сегодня Веселый понедельник! Праздник дураков!» Какие проблемы с трупами, когда есть девицы, пиво и можно/нужно в кабаре петь/танцевать. Сцена разнузданного веселья, и никому нет дела до миллионов задушенных в газовых камерах, память о которых так свежа после Нюрнбергского процесса. Жизнь продолжается, и попробуй ее в этом упрекнуть.
При всех правильных смысловых акцентах (исторических, моральных) Бородину, человеку тонкого и чуткого склада, удалось показать процесс более страшный: как фон (люди, толпа) поглощает суть, пережевывает и, цинично сплевывая, несется дальше: умничает, валяет дурака, пьет, поет, совокупляется и убивает друг друга, невзирая на эпохи. Что страшнее — те, кто на скамье подсудимых, или толпа, виноватая и не виноватая в своей жажде жить и размножаться. Ничего не меняется — тупик, так ясно показанный труппой РАМТа. А выход-то есть?
«Мы — это то, во что мы верим, что защищаем. Даже если защищать это невозможно». Могут эти слова главного героя служить утешением?