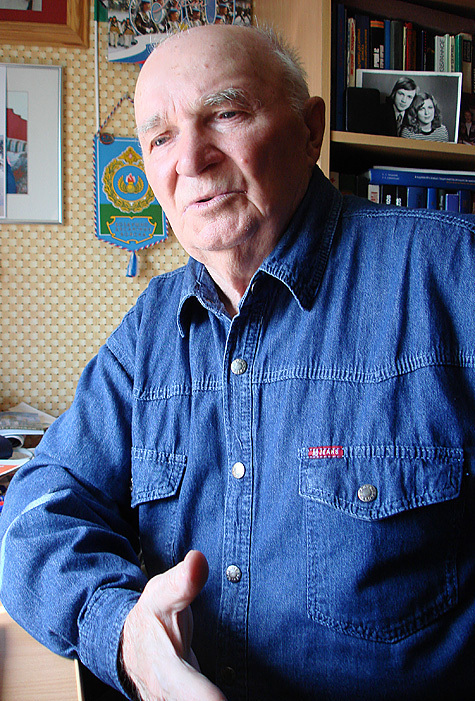На правой стороне мундира у Владимира Терентьевича — американские награды, на левой — советские. От немецких лагерей — шрамы на руках. Судьба писала для него три сценария. В каждом мог быть трагический конец. Но случилась череда счастливых совпадений.
— В 37–м отца арестовали по заявлению соседки, за то что “по пьянке” пел антисоветские частушки, клеветал на стахановское движение. Потом ему вменили подготовку взрыва моста через Енисей. Доведенный до отчаяния, отец кинул в лицо следователю: “Давай протокол, я подпишу, что хотел убить Сталина, Троцкого, Зяму Миргородского”. (Последний — начальник сахарного завода, где работал когда-то отец.) Мать писала отцу, в ответ пришла бумага: адресат не значится. Когда была уже поставлена свечка за упокой, мы получили письмо из Норильска. Отец писал, что находится там, где летом не бывает ночей, а зимой солнца. Он получил восемь лет лагерей.
— Каким помните день 22 июня 1941 года?
— О нападении Германии сообщил по радио Молотов. Мать, хорошо помнившая предыдущую войну, притащила из магазина мешок соли и пару сотен коробков спичек. Вскоре прилавки сельпо опустели. Передовые советские части простояли в селе Вепрек сутки и ушли на восток. Вся Полтавщина оказалась под оккупантами. Бежать нам было некуда. В деревне хозяйничали полицаи. Я надевал женский жакет на вате, шел ночью откапывать из буртов мерзлую свеклу, из которой мать потом гнала самогон. Первач был как золотой рубль — всегда в цене.
Весной 42–го притащил из леса советские листовки на немецком языке с портретом Сталина. Их, по всей видимости, сбросили с самолета. Положил бумагу, ценную вещь во время войны, сушиться на сундук. А тут нагрянул полицай, и, конечно, донес. Начальник полиции Летык хотел сдать в районное гестапо, но мать кинулась ему в ноги. Меня отправили батраком в Германию. Телега увозила меня в дохленьком пальтишке из села, на коленях — торбочка с парой луковиц и яйцами, а на бугре — мать с протянутыми руками.
— В 14 лет начались хождения по мукам?
— Я был один–единственный малолетка среди 16—18–летних остарбайтеров — “восточных рабочих”. На кирпичном заводе груженая тачка в моих руках постоянно съезжала с узкой деревянной колеи. Не хватало ни сил, ни веса. Как “слабосилку” перевели к камере отжига. К концу дня тряпки, намотанные вместо бинтов на руки, были мокрые от крови. Когда потерял сознание и оказался в лазарете, молил об одном: чтобы не отправили в печь крематория.
Из больнички попал в Штутгарт на разгрузку вагонов с молотой известью. Лагерь жил по своим неписаным законам. На блатных блатное не держалось, а на ворах — воровское. Суд вершили сами узники. Заступник передал наверх: “Отец у пацана Куца пошел против Сталина, сидит в советском концлагере, а сын его погибает в лагере немецком”. Когда пришел запрос на рабочую силу в сельскую местность, я попал в группу, передаваемую бауэрам — кулакам.
Человек 50 нас пригнали во двор, где собрались владельцы поместий и их управляющие. Заглядывали в рот, выбирали, как скот. В результате увели на оформление всех, кроме меня. Тощий и постоянно кашляющий работник никому был не нужен. Когда я с солдатом-охранником уже направлялся назад в лагерь, во двор зашел опоздавший мужчина лет сорока. Посмотрев на меня, бауэр стал оглядываться вокруг, нет ли кого покрепче, и, махнув рукой, повел меня в контору “править бумаги”.
“После взятия Сталинграда меня качали на руках”
— На телеге, запряженной коровами, с биркой на куртке “ост” въехали в новую жизнь?
— Когда я прочитал начертанное на столбе название деревеньки — Деванген, мой хозяин Антон Старц от удивления присвистнул. Бауэр из Западной Германии был уверен, что русские и своей грамоте не обучены, а тут пацаненок в ботинках на деревянной подошве без ошибок читал по-немецки. Мне выделили отдельную комнатку, обедать посадили за общий стол. Пища была простая, сельская: овощная похлебка, сало, картошка, молоко, яблоки. Хозяин удивлялся, что я не набрасывался с жадностью на еду, как другие батраки. А у меня желудок и пищевод были отравлены известью.

На немецкий манер меня стали звать Вальдемаром, но за спиной нередко жители деревни шипели: “Кляйне Сталин” — маленький Сталин. Кнехты — батраки с Западной Украины — учили меня втайне от хозяина во время дойки пить молоко через соломинку из ведра. Я один раз попробовал, мне стало стыдно. Моя честность и прилежание давали мне значительно больше, чем если бы я плутовал.
— Сводки с фронта доходили до вас?
— Как только хозяева уходили в кирху, я, вращая ручку приемника, ловил Москву. Перелом начался со Сталинградской битвы. Французские пленные, работающие на лесоповале, узнав о капитуляции армии Паулюса, качали меня, как будто это я взял Сталинград.
“Форверст, Вилли!”
— Как встретились с союзными войсками?
— Возвращаясь с хозяином с углем с железнодорожной станции, мы увидели, как немцы, где горная дорога делала петлю, устанавливали и маскировали в траншеях орудия с длинными стволами. Бауэр буркнул: “Мышеловка!” Я пригляделся, и точно, любая колонна, выскочив из-за уступа, попадала под прицельный огонь.
Поэтому, когда через деревню стали проходить американские джипы с крупнокалиберными пулеметами, я стал отчаянно махать руками и кричать по-немецки, но меня никто не понимал. И вдруг ко мне подскочил “Виллис”, нашелся американец, говоривший по-немецки. Звали его Юджином, до войны он учился в университете в Бонне. Я сообщил, что дальше ехать нельзя — засада.
Солдат достал карту, попросил показать это место. Заметив мой “ост”, поинтересовался: “Ты русский?” И вдруг, глядя на меня в упор, спросил: “А ты хотел бы пойти к нам в армию солдатом?” Оказалось, что Юджин потерял свой экипаж, у него убили стрелка, ранили водителя. Пополнения не предвиделось — дивизия шла в наступление. Нужно было получить разрешение командира. Капрал без лишних проволочек дал “добро”. “Вот твоя работа”, — похлопал Юджин по крупнокалиберному пулемету “Браунинг”. Через час уже показывал, как вставлять ленту в пулемет, взводить ударник и на что давить. На второй день пришел капеллан, поинтересовался, какой веры новый боец. Оказывается, чтобы знать, по какому канону отпевать, если убьют. Я стал Вилли — пулеметчиком разведотряда 4-й пехотной дивизии, входящей в состав 7–го корпуса американской армии, которой командовал генерал Омар Брэдли. Дивизия десантировалась 6 июня 44-го в Нормандии при открытии второго фронта в Европе.
— Первый бой, он трудный самый?
— Мы напоролись на немецкий арьергард — полевую жандармерию. Выскочили из-за поворота и видим: немцы минируют мост, уже бикфордов шнур подожгли. Юджин кричит: “Вилли, стреляй!” Я дергаю затвор, жму на гашетку — не стреляет. Позже выяснилось, что я не дотянул ручку пулемета до взвода пружины. Немцы нас заметили — и на мотоцикл. Пока его седлали, я с пулеметом справился и дал очередь. Мотоцикл свалился в кювет. У того, кто сидел сзади, отлетел рукав шинели метров на 15. Юджин побежал гасить шнур, а я к раненому, вижу — разрывной пулей ему оторвало руку вместе с лопаткой, в прорези шинели видно было легкое. Ко мне подбежали солдаты с других машин, что-то кричали, хлопали меня по плечу. А у меня к горлу подступила тошнота.
“Ты родился разведчиком!”
— Были в авангарде, все время ходили по лезвию ножа?
— Нередко появлялись в селах, откуда полчаса назад ушли фрицы. Если теряли из виду врага, я в ближайшей деревне заставлял кого-нибудь из местных звонить знакомому в рядом расположенные села и по-соседски спрашивать, есть ли у них фашисты. Если есть, просил уточнить, что за войска — вермахт или СС. Капрал говорил мне: “Вилли, да ты родился разведчиком!” А в апреле 45–го при форсировании Дуная в наш “Виллис” стрелял прямой наводкой “Тигр”.
— Ранение получили серьезное?
— Я увидел вспышку у пушки танка и провалился в темноту… В двух местах у меня был поврежден череп, свернута челюсть, выбиты зубы. Хотели отправить в госпиталь, но я взмолился... Ричард самолично вправил челюсть, месяца два еще я заикался, но оклемался.
— Любовь свою встретили на фронте?
— Столько лет прошло, а от воспоминаний о Жаннет до сих пор сжимается сердце. Той весной наш разведотряд расквартировался в двухэтажном особняке. К нам заглянули девушки-француженки с соседней фермы, которые работали у бауэра. Мои отрядные нашли в погребе винный арсенал. Я пошел искать земляков, когда вернулся — в доме дым стоял коромыслом… Изящная блондинка отбивалась на лестнице от здоровенного изрядно поддавшего мулата, капрала из второго взвода. Мне чудом удалось вырвать девушку из его цепких лап. Рванули вверх по лестнице, заперлись на чердаке. В полутьме среди сваленных в кучу картин и мебели Жаннет рассказала, что ее отец был маркизом, помогал патриотам. Вся семья была арестована. Отец, мать и младший братишка погибли в концлагере Дахау. Жаннет на пересылочном пункте чудом удалось попасть в арбайтслагерь. Была батрачкой и вот стала свободной. Мы пили терпкое вино из кубка. А дальше, как у Пастернака: “скрещенье рук, скрещенье ног, судьбы скрещенье...”

Утром, прижав мою голову к своей груди, Жаннет читала молитву, смотрела так, будто хотела запомнить на всю жизнь. Вдруг где-то рядом начали бить скорострельные пушки. Поцеловав Жаннет, надевая на ходу куртку и каску, я бросился к машине, крикнув ей, что скоро вернусь. Преследуя наткнувшуюся на нас эсэсовскую часть до самого Аугсбурга, мы больше не вернулись в этот городок. Жаннет была моя первая и, пожалуй, лучшая любовь.
— Советские войска находились на подступах к Берлину. Задумывались о своей дальнейшей судьбе?
— Служба в американской армии по неписаным законам советского времени приравнивалась к службе в германской. При этом меня страшно тянуло на родину, к матери. Наша 4–я дивизия не входила в состав частей, которые должны были выйти на стыковку с Красной Армией. И я принял решение своим ходом ехать навстречу советским войскам.
На дорожку капрал выдал мне охранную грамоту — документ, где было указано, в какой части воевал, какими языками владею. Командование подарило трофейный “Мерседес” в камуфляжной раскраске, который требовалось заводить без ключа. Ричард и Боб написали на листке свои адреса. Юджин еще раньше подарил мне фотографию мамы, где на обороте оставил свои координаты.
1 мая я рванул в сторону Вены. На заднем сиденье у меня лежал ящик с продуктами, под рукой был немецкий автомат. Над машиной ребята натянули оранжевый тент, чтобы американские истребители не расстреляли по ошибке. Я ехал по совершенно пустой дороге, среди гор и цветущих альпийских лугов. На “Мерседесе”! Мне было 17 лет… Эйфория длилась недолго. Выскочив из–за очередного поворота, я увидел, как с проселочной дороги на шоссе выскочил броневик. Присмотрелся, машина была… немецкая. Я настолько растерялся и онемел, что продолжал двигаться с той же скоростью, в том же направлении. Так один за другим мы промчались мимо съехавшей на обочину немецкой колонны. На касках и петлицах солдат были видны знаки СС. Я срезал повороты на безумной скорости, не видя ничего вокруг. Когда показались купола кирх и зданий Зальцбурга, я в последний момент нажал на тормоз, но избежать столкновения с припаркованными на въезде “студебеккерами” не удалось. Подскочившему ко мне громадному негру в форме военного полицейского я выпалил на немецком: “Вас волен зи? (Что вы хотите?)” Повисла тишина…
Потом был полицейский джип, упертый меж лопаток ствол пистолета, доклад американскому подполковнику: “Джи ай Вилли Куц, еду на родину в Россию”. Мои документы офицер просматривал при гробовой тишине, потом произнес: “Рашен” — и крепко обнял меня.
— Где встретились с советскими частями?
— 5 мая вместе с передовыми частями американской армии Паттона я был уже в Линце. А вскоре на реке Эннс состоялась встреча союзных войск. Я предстал перед генералом Павлом Афониным, который командовал 5-й воздушно-десантной дивизией. Выслушав мою историю и просьбу взять меня в Красную Армию, генерал обратился к одному из офицеров: “Шварев, займитесь бойцом!” Неизвестно, как бы сложилась моя судьба, если бы я не попал в руки контрразведчика Смерш капитана Николая Шварева. Старший оперуполномоченный, зная, что я владею языками, забрал меня в свой “штаб”.
— Чем приходилось заниматься в составе 1-го батальона 16-го полка?
— Контрразведчикам нужно было знать, что собой представляет американская армия, а я в этом смысле был ценным источником информации. Все четыре месяца, пока я находился в дивизии, ходил в американской форме, раскатывал на американской машине с немецким оружием. Мне не было еще восемнадцати, я упросил генерала Афонина отпустить меня домой. Транзитом попал в лагерь под Мельком, где проходили проверку советские гражданские лица, угнанные в Германию. Особист, молоденький лейтенант, забрав мои документы, сказал: “Значит, так, Володя, ни в какой американской армии ты не служил. Форму ты выменял за хороший костюм, который достал у немцев после освобождения. Так велел капитан Шварев”. Так закончилась моя американская эпопея. На сорок лет это стало моей тайной.
“Меченый” по жизни
— Домой сообщили о своем возвращении?
— В сентябре 45-го приехал в родительский дом. Хата разбита немецкой миной, дров нет, жрать нечего. А тут еще в военкомате уполномоченный госбезопасности с пристрастием стал пытать: “Ну как ты добровольно помогал Гитлеру воевать против нас?” Понял, что “меченый” теперь по жизни. Когда отчаяние хлестало через край, в селе появился… Шварев — в кожаном реглане, перепоясанный ремнями, с планшетом и пистолетом. Опять в жизни мне выпало счастливое совпадение. Его полк, расквартированный в далекой Австрии, перевели именно в наш райцентр. С помощью Николая Ивановича я получил годичный паспорт и без разрешения, бросив трудовой фронт — работу на кирпичном заводе, уехал к отцу в Норильск, где были сплошные зоны, колючая проволока, бараки да балки. В Заполярье застрял на долгих 27 лет. Был одним из немногих “вольных”, закончил вечернюю школу, заочный политехнический институт, аспирантуру. Прошел путь от дежурного бойлерных установок на ТЭЦ до заместителя начальника Госснаба. Был переведен в Москву, работал уполномоченным Совмина по объектам первостепенной государственной важности.
— Когда “открылись”, рассказав о своем американском военном прошлом?
— Только в 88–м, после второго инфаркта. Николая Шварева, благодаря которому чудом избежал ГУЛАГа, в живых не застал. Он умер в апреле 86–го в Перми. Через 43 года нашел своих американских друзей. Собрались мы вместе в марте 89–го. Первым в аэропорту Бостона мне протянул руку капрал, командир взвода Билл Риска. Обняв меня, сказал: “Помнишь, я тебя чуть ли не за уши драл, когда ты снимал каску?” Билл всю жизнь преподавал, а на момент нашей встречи работал в мэрии Винстеда. Когда увидел Ричарда, который занимал в нашем экипаже место у руля, едва не упал от избытка чувств. Это он при обстреле старался так поставить машину, чтобы прикрыть меня от пуль. Потом вернулся в Вермонт, в семье появилось шестеро детей. Друга Юджина я узнал бы из тысячи. После войны он учился в университетах Швейцарии и ФРГ. Выглядел франтом. Боб, тот вообще не хотел отпускать моей руки. На встречу притащил каску, в которой я воевал. Я для них остался тем же 17–летним Вилли. Четырех десятков лет как не бывало.